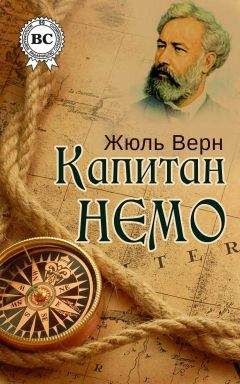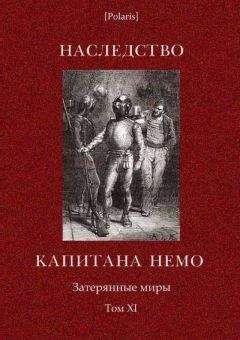— Не надо, — сказал он, — чего людей зря беспокоить! Давай чаю.
По пути на кухню я заглянул в зеркало: вид у меня был: бледное лицо, сумасшедшие глаза — беспокойство и страх проглядывали в них. Не от сознания страх — подсознательный, глубинный.
В кухне я зажег газовую горелку, поставил чайник на огонь и вздрогнул от чересчур громкого стука чайника о плиту. «Бережно чайником гряну» — вспомнилось. Чья это строка? Гены Васильева? Нет, Паши Маракулина, вятского стихотворца. Какая все-таки смешная фамилия — Маракулин! Я бывало подначивал его: «Как можно с такой фамилией идти в литературу, старик! Придумай псевдоним. Вон Олегу „посчастливилось“ — Пушкин! Он заменил псевдонимом: Ждан. Олег Ждан. Просто и со вкусом. А ты будь хотя бы Акулин. Или Акулинин».
А стихи у Павла хорошие:
В миску насыплю зерна,
Бережно чайником гряну,
Черного хлеба достану,
Красного выпью вина….
Тут слово «гряну» стоит на своем месте.
Я остановился, медля вернуться в комнату. Не по себе мне было. Не позвонить ли в дверь к соседям, чтобы перекинуться словом? Увижу их и успокоюсь: не сошел с ума. Хорошо б они глянули на моего гостя. Впрочем, не надо.
За окном поздняя осень. На Волге волны с белыми барашками — тревожна Волга. Ветры оборвали уже с деревьев последние листья. По утрам лужи затягивает ледком. Как там у Паши Маракулина…
Холодно в доме моем,
Каркает ворон снаружи.
Пережидать эту стужу
Лучше, конечно, вдвоем…
Лучше вдвоем, вдвоем.
Вернувшись, я увидел, что мой гость стоит перед книжными полками спиной ко мне и внимательно что-то разглядывает. Я не удивился бы, если б этот плечистый грузный мужик, обернувшись, оказался не Комраковым, а просто случайным посетителем. У меня с ума не сходило: некролог. Не где-нибудь — в «Известиях». Нечего и думать, чтоб центральная газета позволила себе такую ошибку. Но человек-то жив! Или не жив?
Я опасливо встал рядом, глянул сбоку: все-таки это Комраков. Он приехал ко мне в гости — два с половиной часа на электричке от Москвы! — а я пугаюсь, как последний неврастеник. Это неблагородно, это не по-товарищески.
Он всегда был старшим в нашей дружбе, ведущим, и если нужно было нам встретиться, я шел к нему, а не он ко мне. А теперь, вишь, приехал: «Повидать тебя захотелось, посидим, поговорим».
— У меня тоже это издание, — сказал он, снимая с полки Монтеня, — первые два тома в одной книге. Так и не успел прочитать. А ты?
— Читал.
— Все было недосуг, всегда торопился куда-то, суета всякая. Все казалось: успею, времени впереди много. Ну и что ты там вычитал?
— Мудрые мысли.
— Ну-ка, хоть одну процитируй, как запомнил.
— У меня плохая память, Комраков.
— Так я и знал: и ты не читал!
— Да читал, читал! Уверяю тебя, это произвело во мне необходимую работу.
— Ладно, старик, не смущайся.
Он поворачивал книгу так и этак, словно кирпич, и неожиданно предложил:
— Погадаем на меня, а? Что выпадет. Назови страницу и строку.
— Сотая, десятая сверху.
Он старательно отлистал в толстом фолианте, прочел:
— «Философ или вообще человек с чуткой совестью и тонким умом».
— Это ты философ? — спросил я.
— Так написано в этой книге. Ты же сам назвал страницу и строку. Все было честно.
Я позавидовал ему: хорошо выпало. Как выигрыш в лотерее! Человек с чуткой совестью и тонким умом, ишь ты!
— Теперь на тебя давай, — сказал он великодушно: авось, мол, не только ему, но и на мою долю достанется что-нибудь утешительное.
— То же самое, но по Библии, — ревниво сказал я. — Сотая страница, десятая строка сверху в левой колоночке.
Должен признаться, что у меня тут был расчет: я все еще не верил, что это он, живой. И если что-то не так, то Библия его смутит.
Но мой гость спокойно снял ее с полки, сосредоточенно отлистал и прочел с тем же выражением:
— «…и по ошибке согрешит против посвященного Господу». Вот так, старик.
Я отобрал у него Библию, проверил, не сочинил ли он на ходу. Все было верно.
— И что это означает, по-твоему? — спросил я, признаться, озадаченный такой многозначительной строкой.
— Мотай на ус, двигай мозгами, соображай. Ты у нас самый сообразительный.
Волнение владело мною!
И как это я промахнулся! Надо было мне гадать по Монтеню, а для Комракова — по Библии. И это я был бы философ с тонким умом, а он согрешающим против посвященного Господу! Всегда ему везло, просто так, ни за что, ни про что.
А Комраков удовлетворенно отошел к дивану и сел уже не прежним замедленным движением больного человека, а довольно бодро, словно поздоровев. Он стал живее! Но я видел явственно, как бы на своей лобной кости с внутренней стороны четкие буковки газетного текста «Наш друг Геннадий Комраков ушел из „Известий“ по инвалидности семь лет назад, оставаясь автором газеты. Все эти годы тяжелая болезнь терзала его. Но надо знать его характер, его веселый нрав…». Это был некролог. Его не вырубишь топором.
— Слушай, старик, а почему ты не был на похоронах? — вдруг услышал я.
— На чьих?
— На моих.
Я смотрел на него. Он смотрел на меня. Причем так, словно он в свое время приглашал меня, и я обещал непременно быть, но обманул, не явился отдать последний долг.
— Я понимаю, — голос Комракова звучал неприятно, обличающе, — обряд этот не в удовольствие никому, но не одними только соображениями приятности следует руководствоваться. Насколько я знаю, именно так ты пишешь в своих романах.
«Вот зачем он пришел! — подумал я. — Взыскать по счету».
— Гена, газета с некрологом попала мне на глаза две недели спустя после. — начал я оправдываться и запнулся, чуть не сказав «после твоей смерти», но вовремя спохватился и нашел другие слова, — после ее выхода в свет. Я решил, извини, что тебя уже похоронили.
— Меня похоронили, — эхом отозвался он. — Но в тот день ты должен был постоять у моего гроба. По долгу нашей дружбы, старик. А ты этого не сделал.
— Откуда же, сам посуди, я мог узнать о твоей смерти? Ты мне ничего не сообщил, даже тогда, когда виделись в последний раз. Небось, предупредил бы: так, мол, и так, намерен помереть такого-то числа, изволь прибыть, похороны на Новодевичьем или Ваганьковском.
Юмор висельника. Но меня извиняли чрезвычайные обстоятельства и глубокое душевное волнение.
— Как это не знал! — сказал Комраков, не глядя на меня. — Должен был знать, и все тут. А ты уклонился, старик. Я не ожидал от тебя. Олег — в Минске, Генка Васильев — в Оленегорске, а ты ближе всех, в двух часах езды на электричке.
Это был непереносимый упрек. Настолько непереносимый, что я спросил:
— А почему твоя Нина не известила меня телеграммой? Неужели это было так трудно? И сыновья твои тоже хороши: не могли уж.
— Разве они не телеграфировали? — спросил он после паузы и нахмурился.
— Нет.
Мы помолчали. Но разговор был начал и логика его развития требовала продолжения в новом русле.
— Я понимаю, у тебя много друзей помимо меня, Олега и Генки Васильева, — повел я атаку. — Но мы все-таки составляли наше литинститутское братство, а другого у тебя не было. Ты вспомни, что говорил Тарас Бульба: «Нет уз святее товарищества! Мать любит своё дитя, жена любит своего мужа… Но это не то, братцы! Любит и зверь своё дитя. Но породниться по душе, а не по крови, может один только человек». Или ты жену свою воспитал как-то иначе, и она такого родства не признаёт?
Он молчал.
— Жены часто ревнивы к друзьям своих мужей, — продолжал я, уже не ради защиты высказывая свою обиду. — В твоей всегда чувствовалась досада, когда мы появлялись. В любом другом случае я её оправдал бы, но тут, подозреваю, что взяли верх неблагородные соображения: твоя семья известила лишь тех, кто ей казался поважнее.
— Ты погоди, — остановил он меня. — Не говори, чего не знаешь. Может, телеграф не сработал.
Это сомнение возникало у меня ранее, и я в свое время сходил на почту: нет, телеграмм для меня не приходило.
Еще раз вернусь к тому июльскому дню, когда по сути дела попрощался с Комраковым. Направляясь к нему, я шел Тверским бульваром и остановился у Литературного института. Обычно я проходил мимо, лишь бегло скользнув взглядом по фасаду столь знакомого дворянского особняка. А тут подошёл, взялся за железные прутья ограды: предчувствие томило меня.
Никого не было на крыльце, а в скверике тоже пусто. Но явственно увидел я нас, толпящихся там: и себя, и Комракова, и Олега Пушкина, и Володю Кавторина, и Павла Маракулина. Тени наши бродили там! Голоса наши отчётливо звучали! И между мною и ими было непреодолимое пространство времени. Мне уже не преодолеть ту ограду и скверик, не соединиться с теми, что стояли там, у крыльца.