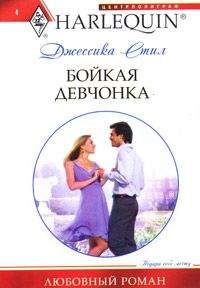«У нас уже тогда с одним человеком из Березовской экспедиции все было сговорено, — помнил Виктор, как сквозь потаенную свою улыбку рассказывала мать. — Незаметненький хотя, против отца, но человек, видать, хороший. Одиночка. Стеснительный, за руку боялся взять, а мужику за сорок. Вот мы с ним, два сапога пара, наподобие школьников и дружили. В кино сходим, в горсад. А тут как-то иду — в город пошла, в трест, — к мосту подхожу — Леша навстречу на велике едет. И рулем-то вильнул, чуть не упал было. Останавливается, разговорились. Он меня о том, о сем расспрашивает, как живешь, где… У меня и мысли нет, к чему это он. Говорю и дивлюсь — мы с ним знакомы-то шапочно были, в лицо только. И вдруг раз, обухом по голове, — давай, говорит, сойдемся! Я пока искала, как лучше сказать, что другой-то есть, — прямо отказать вроде нехорошо, трое детей у мужика, не шутка дело, — он уж на велик да покатил. Сходила в трест, возвращаюсь, а я как раз только избушку купила по Краснооктябрьской. Прихожу домой, а у меня дым коромыслом! Он уж и детей, и вещи перевез! Нашел ключ, открыл, давай перестановку делать. прибираться, картошка на примусе жарится… А меньшая, Ленка, девятый ей тогда шел, да хорошенькая такая, прямо на шею мне кинулась: „Мама, мама наша пришла!..“ Господи… Стали жить. Ну, это он, Алексей, конечно, тогда девчонку маленько подучил… Хитрый-Митрий…»
Выходит, он, Витька Томашов, появился на свет благодаря житейским неуладицам, благодаря сумятице послевоенного десятилетия…
— Все было бы у нас с Ирой хорошо: я таежничал, деньгу немалую зашибал, она с детьми оставалась, работала, ты родился… Да вот родня!.. — сокрушался между тем отец. — И ехать со мной ее отговорили! У них же понятия, будто только там от Кажи до Бийска люди живут. А дальше — конец света. А по уму-то как: куда иголка, туда и нитка! Нет, родня дороже была. Сколько писал, звал, жилье тут присматривал…
Витька мелко заморгал, ссутулился. Помнил он многие отцовские послания: едва научился читать, стал заглядывать, разбирать их по слогам. Были они в основном на почтовых открытках, красивым размашистым почерком, грубые обычно и ругательные. Костерил отец мать за все подряд, с бухты-барахты. Но особый пункт — думы ее о нем якобы скверные. За свои же домыслы бичевал! Мать его худым словом не поминала — хотя бы с чего поминать добрым? Прислал фото как-то свое на фоне морских безбрежных вод!.. То деньги телеграммой просил, остался где-то без копейки (это странно, видно, впрямь приперло: он умел зарабатывать). Родственники потом долго разводили руками: дескать, вовсе уж сивой кобылы бред, от него — шиш на масле, а она же ему… И однажды, во втором классе, подогреваемый чувствами родных, конечно, Витька сам написал отцу. Услышал в кино слово «ничтожество», и так оно его, знавшего уже наворотистые матюги, поразило, показалось самым обидным, какое есть на свете. Сердце заходилось, когда он его повторял. Вырвал тетрадный лист в косую линейку и крупно вывел: «Здравствуй, папа. Ты ничтожество». Успокоился, спрятал письмо за зеркало на стене и лег спать. Но мать утром заметила уголок бумажки, вытащила, прочитала. Дала нагоняй…
— Стоп! — резанул отец и круто свернул, оборвав на полуслове свою речь о виноватой родне. — Это надо постоять! — Витька, еще не понимая, куда и зачем, побежал следом. — Крышки! Нынче хочу побольше варенья закрыть, — вынимал отец сетку из нагрудного кармана.
Встали в хвост длинной очереди вдоль витрины магазина.
— Они так-то люди неплохие, — доканчивал-таки отец мысль, имея в виду злосчастную родню, — но неверно меня понимали, считали, что я на чужом горбу хочу в рай въехать. А тут еще одно к другому: дети старшие подросли, разбежались кто куда, и я засобирался… В глазах родни как получалось: будто только и ждал, когда дети подрастут. А я жить хотел!.. И поехал с мыслью, что мать с тобой приедет сразу, как только место присмотрю… Племянники продержали… Может, я им шумливым казался? Бывало, по своей торопливости и нашумлю. Так у меня голос такой: говорю, а люди думают — кричу, прибегут: «Ты чего тут командуешь?! А ты чего, тетка Ира, перед ним робеешь?!» А Ира все, бывало, скажет: «Он будет кричать да я буду — это что же у нас получится?..»
Передохнул, осмотрелся по-хозяйски, вперев руки в бока. Возмутился недостатком такого дерьма, как крышки. Очередь сразу откликнулась, заговорили. И отец уже, будто знакомым, близким, поведал горделиво, что вот приехал к нему, пенсионеру, сын, студент физкультурного института. Боксер! Даст в челюсть — в трех местах лопнет! Словом, парень хоть куда! Только больно уж веселый. Балагур! Рот клещами не разожмешь!
На Витьку с любопыством смотрели и улыбались. И он тоже в ответ улыбался всем, улыбался. И отец вздрагивал редкими смешками, по-детски выпятив язык. Узрел газетный стенд, смахнул ладошкой слезинки в уголке глаза:
— Международное положение таково, что зевать нельзя. Постой пока, — и пошел читать газету.
И шумная улица без отцова голоса показалась Витьке тихой, будто самолет после посадки заглушил моторы. И в душе стало тихо, просторно.
Уже долговязым тринадцатилетним подростком ехал Витька через знойные казахские степи к какому-то непонятному, полузабытому отцу. Тогда многие уезжали из Сибири на юг. Подтолкнул поток и их, мать с сыном. Правда, они подались не за теплом, а к мужу, отцу. Он стал настойчиво звать. Сначала решили окончательно с места не срываться, съездить, посмотреть. Тем паче нигде мать за свою жизнь не была.
Весь путь она была непривычно улыбчива, но вдруг задумывалась, и проступала в лице неуверенность, мука даже. Спохватывалась, снова любовно и улыбчиво поглядывала на сына, хотя что-то горькое у губ все равно оставалось. А Витька неотрывно торчал у окна — там, за вагонным окном, было много удивительного! Бесконечные желтые волны барханов, палящее солнце, ослы, верблюды, будто погустевшее небо, стоймя разлившееся по горизонту, синева Балхаша, смоляно-загорелые пацанята со связками вяленых и копченых сазанов; на станциях горы арбузов, а вокруг вырезанных для пробы зернисто-красных пирамидок роем жужжали пчелы. А самое невероятное — яблоки ведрами, как картошка!
Наконец, в недвижно клубящемся вихре зелени предвечерний город. Тот самый, где на одной из окраинных улочек живет отец. Привокзальная площадь с огромной клумбой посередине и упирающимся в нее широким бульваром; запах медунок, еще какой-то резкий — отдает нашатырем, но приятный — запах роз, как выяснилось; раскаленный асфальт; теплый, без единого дуновения воздух, разномастный народ в ярких одеждах. И захватывающее дух чудо — горы, три гряды призрачными исполинами вздымающиеся над городом.
В Доме колхозника переночевали, с утра пораньше отправились искать отца. На матери было лучшее ее платье кофейного цвета, с рифлеными сборочками на груди. Правда, шерстяное, не по местной погоде. Мать немного смущалась, но Витьке очень нравилось, когда она надевала это платье; и он с твердостью заверил: «Ничего, зато красивое. И не такое уж теплое, люди вон в стеганых халатах ходят!»
Зашли в столовую, именуемую «Ашхана». Взяли блюдо с незнакомым названием «лагман». Еда обоих развеселила: смешили собственные попытки подцепить и донести до рта соскальзывающие с ложки длинные макаронины. Мать была, как обычно, спокойна и благодушна. Только кончик потемнелой алюминиевой ложки мелко подрагивал в ее руке. И вдруг — сорвалась с него жирная капля на рубчик светло-кофейного платья!.. Мать пошла к крану, замыла крохотное пятнышко. Витька, без дураков, в самом деле ничего заметить не мог, ну, может, если уж очень приглядываться, есть какая-то точечка, так подумаешь, важность! Но мать страшно переживала, не давало ей пятнышко покоя. Пока ехали в автобусе, то и дело трогала рубчик, приваливала его туда-сюда. Нашла наконец выход: повязала на шею косыночку, прикрыла рубчик. Вроде успокоилась. Щурясь от солнца, долго смотрела в окно на белую полоску воды широкого арыка. Вздохнула, сняла косынку, небрежно сунула обратно в сумочку.
Мать осталась на перекрестке, а Витька пошел по адресу. Беленый домик с залезшими на крышу ветками вишен, дощатые воротики. Рука не поднималась, не хватало ей сил постучать или повернуть железное кольцо. Витька еще и еще прикидывал в уме, твердил слова, какие станет говорить. Какие — если выйдет он, отец; какие — если она, женщина, жена его или кто там. Но в голове пульсировала пустота, стук сердца отдавался в коленях. И так подзуживало убежать, повернуться, и со всех ног отсюда, на вокзал, сесть с матерью в поезд — и домой, ну их к дьяволу, все эти яблоки, арбузы, и отца туда же!.. Домой! К друзьям, к родне, к теткам, браткам многочисленным, няням, которые души все не чают в матери, любят и холят его, Витьку, единственного в большой материнской родне сиротинушку… Зачем он здесь?! Что ему надо? Но ведь сам же, сам рвался в неведомые «теплые края», сам хотел к отцу!