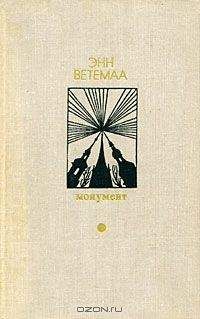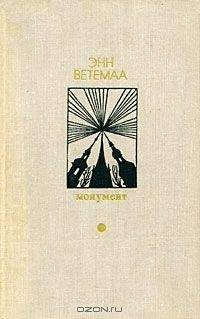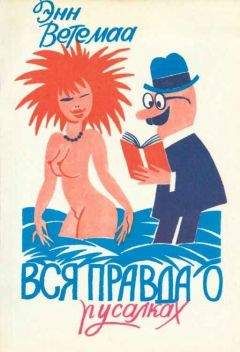— А сегодня … хе-хе … Пришел сюда за вдохновением?
— Вот-вот. Сегодня пришел сюда.
Он искоса кинул на меня подозрительный взгляд.
— И вдохновился?
— О морских раковинах думаю.
— ?
— О морских раковинах и о нашей голове. Угадай, какая между ними разница?
— Никакой. Обе пустые! — И он загоготал.
— Не у всех.
Рауль пригляделся ко мне попристальнее.
— Паршивое настроение, да?
— Вовсе нет.
Рауль заговорщицки наклонился к моему уху:
— Погляди вот на того! На того возле окна. В сером костюме. Который что-то говорит парню в штормовке.
— Вижу. И что в нем такого особенного? Небось, хочешь сказать, что он гомосексуалист.
— Слушай! У тебя, видно, и впрямь паршивое настроение!
— Да нет же!
— Тогда чего ж ты так … так… — Он не нашел подходящего слова.
— Но ведь ты, Рауль, большой любитель таких сюжетов.
— Слушай, Руубен, если ты решил заедаться, то я лучше сяду за другой стол.
— Вот удружил бы!
Этого он все же не ожидал. Да и я — тоже.
— Не пойму, какая гадюка его укусила… — От волнения Рауль всегда прибегает в разговоре к форме третьего лица. — Знаешь, я даже не обиделся. Нет! Я понимаю — переработался… А вдохновение бывает не всегда. Я понимаю…
Он кисло улыбнулся, поднялся и, яростно пыхтя, как маленький сердитый паровоз, покатил к выходу.
Самое худшее в этом человеке, что он всегда «понимает». Рауль-Который-Все-Понимает! Можно послать его к дьяволу, но это бесполезно: ведь он «поймет». И на следующий день опять все забудет.
Но все-таки почему я сегодня такой колючий? Ах, зачем играть в прятки — я же слишком хорошо это знаю! Одно из воскресений на ипподроме. Воскресный ипподром — теперь уже более чем пятнадцатилетней давности.
Я хлебнул рому.
Хрустит под колясками гравий, фыркают лошади.
— Неужели вы действительно не понимаете, зачем это нужно? — Стекла очков сверкают мне прямо в лицо. Этот плотный натиск, по-видимому, должен выражать доверительность, но он скорее отпугивает. Толстые стекла искажают глаза: они нелепо выпучены, еще немного и — упадут на стол, покатятся между тарелок и грохнутся биллиардными шарами на пол. — Вы же давнишний ученик Каррика, а когда ученик выступает против своего учителя н задает ему с трибуны небольшую, ну, небольшую порку, то это показывает… да, что это показывает? — Глаза удаляются, невидимые резинки возвращают их назад, в череп. — Это показывает, что маэстро не до конца испортил своих учеников! Ну, заразил их малость эстетизмом, затуманил им мозги этим, ну, как его, l'art'ом pour l'art'a[1], но соображение у ребят осталось. Значит, дела не совсем еще плохи … Разве не так?
Черт его разберет! Какая-то логика в таких разговорах есть… Только вот… Я чувствую, что он основательно сбил меня с толку.
— Берите горчицу! Свежая…
Оба мы — я и он — сидим в буфете ипподрома. Вот уж не подумал бы, что он тоже здесь бывает, и однако мы с ним столкнулись у кассы тотализатора, в очереди на выдачу. Одна и та же лошадка принесла нам выигрыш. Но у меня был один талон, а у него — три. Вот мы и отмечаем победу скромной трапезой.
— Иногда надо и самому стукнуть. Пока не избили, — умудренно говорит он.
Я испытываю к нему антипатию. Может, это из-за очков, которые всегда так не идут таким мужицким бруснично-багровым лицам. Хотя кто его знает? Может, наоборот, идут, ибо как раз подчеркивают то, что без очков оставалось бы незаметным, то, что совершенно не соответствует деревенскому духу таких людей.
Здесь, под трибунами, приятная прохлада. Над нами кишит воскресная толпа, потная от жары и азарта. Репродукторы трескуче обрушивают на ее головы истинно ипподромную музыку. Уже одна эта музыка заставляла меня сдержанно ухмыляться: сладкий тенор, воспевавший еще несколько лет тому назад бархатистые ночи венецианской любви и освещенные факелами гондолы, сегодня сообщал под духовой оркестр, что он бравый тракторист и любит доярку и в свободное от работы время знай отплясывает с ней польку, а полька рождает в них трудовой порыв. Не то чтобы эта деревенская полька очень уж уступала скольжению на гондоле, нет, просто этот голос, менее всего деревенский и мужицкий, вызывал некоторую иронию.
Я мажу колбасу горчицей и отправляю в рот солидный кус.
— Неплохая послевоенная колбаса, верно? — смеется он. — Не символ колбасы, а подлинная реалистическая колбаса! И довольно вкусная, да?
Рот у меня набит, остается только кивнуть. А он, посерьезнев, торопливо продолжает, стараясь, видимо, воспользоваться моим молчанием:
— Что бы вы там ни говорили, этот Каррик — эстет! Положа руку на сердце, решитесь вы с этим спорить? Не решитесь! Нет ведь? Так что лучше не упирайтесь. Вам придется выступить! Ради эстонской литературы, ради самого Каррика. И ради кое-кого еще!.. Пойду возьму сигарет.
Он встал и занял очередь к буфету. Придется взять слово ради кое-кого еще? Что он имеет в виду?
На каменном полу валяются разорванные билеты тотализатора — несбывшиеся надежды. А перед кассами уже толпятся новые покупатели. Я обращаю внимание на пожилую даму в причудливой, похожей на кепку шляпке. Дама эта бывает здесь каждое воскресенье. Говорят, что она ходит на ипподром уже не первый десяток лет, что она потомок каких-то прибалтийских баронов и проиграла на скачках два дома. Странная женщина: носит высокие мужские ботинки, в которых ноги кажутся похожими на две очень тонких трубочки. Движется она, словно во сне: судорожными рывками, как бы вопреки своей воле. Чудится, будто где-то поодаль, куда не достигает наш взгляд (а ее взгляд, обращенный, как у всех морфинисток, внутрь, и подавно), стоит Великий Дергатель Ниточек и женщина эта вовсе не женщина, а марионетка.
Но я же не марионетка! И он — отнюдь не Великий Дергатель!.. Как мне вообще пришло в голову такое? Ведь в разговоре, в е г о разговоре есть и своя логика. Каррику наверняка будет лучше, если на него нападу я. Нападу в меру мягко, но и не слишком мягко. И все-таки, все-таки здесь что-то не так, я это чувствую. Душой чувствую. Нет, лучше не выступать против Каррика.
Ну вот и он. И странно: с бутылкой водки… Он перехватывает мой озадаченный взгляд и говорит с усмешкой:
— Что вы так испугались? Ведь это не для нас… — Он ставит бутылку на угол стола. — Конечно, мы можем и сами, но я подумал, что неплохо бы послать маленький подарок этому жокею — кажется, его фамилия Ребане. Так сказать, конь ваш — куш наш!
— Что ж, — говорю, — можно, я даже знаю, где его конюшня. — И начинаю рыться в карманах, чтобы внести свою долю.
— Ну что вы! У вас был один, а у меня целых три билета. — Лицо его снова кривится от смеха. — Выбирать вы умеете, но пойти ва-банк боитесь!
Интересно, нет ли в этой фразе задней мысли?
— Но мне, понимаете, некогда. Может, вы сами отнесете ему бутылку?
Я киваю. Это можно. Что тут такого?
Если он опять сядет, тогда я скажу ему, что все-таки не стану выступать против Каррика. Просто не могу! Но он уже не садится. Машет мне на прощанье рукой.
— Пока, значит! Я рад, что вы меня поняли, что мы нашли общий язык.
И уходит.
Я пробиваюсь сквозь галдящую толпу к конюшням. Шелк и навоз, любовные песенки и щелканье хлыстов, глянцевые конфетные бумажки у стены, пропитанной приторно-едким запахом мочи, — все это вместе и есть ипподром. Ему не откажешь в грубой прелести уличной девки. Но сегодня, несмотря на восемьдесят рублей выигрыша, мне здесь паршиво. Перед трибунами я как назло натыкаюсь грудью на пьяницу. В лицо мне ударяет кислым запахом перегара.
— Пардон, мусье, — говорит он и тупо ржет. Неприятно сталкиваться с пьяницей, когда под пиджаком у тебя бутылка.
Я добираюсь до конюшен.
— Слегка шарахнуть — не повредит, — говорит жокей Ребане, тот самый человек, который только что хотел сесть ко мне и который сейчас громко несет за соседним столом бог знает что к ужасу благопристойных дам (лица у них замкнутые, исполненные страусиного достоинства). Мы садимся на забрызганную навозом скамью, пьем водку прямо из горлышка и занюхиваем ее хлебом. Довольно противно, но настроение улучшается.
Странное дело, разговор у нас идет как по маслу. Немного погодя мы добавляем к водке бутылку вина, и кончается тем, что я выкладываю жокею свои душевные сомнения. Парень в костюме из желтого атласа выслушивает меня серьезно (мне нравится, что такие слова, как «поэт», «профессор», «союз писателей», не производят на него никакого впечатления) и советует:
— Да пошлите вы его подальше! Это против своего-то учителя… Благодарю покорно! Пускай сам выступит! Пошлите-ка его в баню, этого миленького советчика!
Я слушаю его молча, я уже уверен, что так и сделаю.
Я допил ром. Кофе в кофейнике еще остался, но сидеть здесь больше не хочется. Я сделал знак официантке.