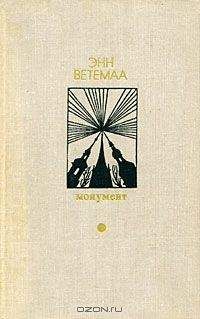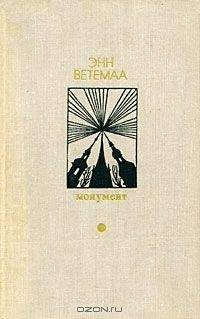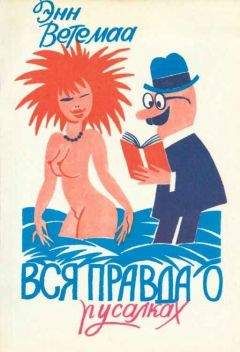Начало накрапывать. Пошел осенний дождь, мелкий, противный. Неба вроде и не было: одновременно с дождем на город опустился вечер, сдвинувший верхние этажи домов по обе стороны улицы. Когда я поднимал голову, мне казалось, что я иду по дну канала, прорубленного в скале. Загорелись одна за другой световые рекламы. Их пронзительные краски мягко расплывались в черно-серой дождевой дымке, стекали каплями на полиэтиленовые плащи, дрожали бликами на раскрытых зонтах.
Я зашел в кафе «Харью».
Увидев Александера, я сразу приуныл. Я не знал, что он и здесь подменяет по выходным дням швейцаров. Александер поднял откидную доску, чтобы выйти из-за гардеробной стойки и помочь мне раздеться. Я попытался опередить его, но поздно: он уже сдирал с меня пальто. Мне стало совсем неважно: костюм у меня был мятый, туфли — расшлепанные. К тому же рвение Александера привлекало внимание — меня обследовала уже не одна пара глаз, оторвавшихся от кофе.
— Как живем? — И Александер оскалил свои прокуренные зубы.
— Да уж чего там… — пробурчал я. — Все по-старому.
Сколько помню, у Александера никогда не пахло изо рта, но все-таки я отвернулся.
— Ну, если по-старому, значит, хорошо! Я — тоже по-старому.
Не слишком ли он подчеркнул свое «если»? Я бегло взглянул ему в глаза, но ничего в них не вычитал. В этих карих, чрезмерно карих собачьих глазах маслянисто мерцало дружелюбие, сплошное дружелюбие. Но я-то ведь, несмотря на все, чувствовал, что все последние годы Александер пристально следил за мной. Сейчас я пойду в зал, а он — я почти уверен — будет жадно глядеть мне вслед, чтобы оценить, насколько изношены мои туфли и насколько забрызганы грязью брюки. Он из всего сделает выводы. На самом же деле вещи-то на мне приличные, только вот не слежу я за ними, совсем не слежу.
Я спустился в зал, который гудел уже по-вечернему. Мне повезло. Женщина преклонных лет выложила на столик восемь копеек за кофе, поднялась и походкой графини направилась к выходу. У нее был точечный ротик, надменно накрашенный кровавой помадой, и шляпа с фантастической вуалью. С плеч ее свисало нечто облезлое, что вполне могло когда-то быть серебристой лисицей.
Я вцепился в освободившийся стул — как раз напротив зеркала — и спросил разрешения сесть. Тощий старик в очках оторвался на миг от тарелки, скользнул по мне недоверчивым взглядом и, засопев, вновь принялся поглощать свое виноградное пирожное. Старик был в грязной синей рубашке с немыслимым ярко-красным галстуком, — он не скрывал, что в восторге от пирожного.
Я достал из кармана газету, но не успел и развернуть ее, как появилась официантка. Длинная робкая девочка, которой прежде я не замечал, — должно быть, новенькая.
Она собрала со стола медяки, прилежно записала мой заказ — кофейник кофе и сто пятьдесят рома, — изобразила улыбку (ей, видимо, сказали, что так надо) и скрылась за шторой.
Зеркало мне мешало. Когда мужчине набегает пятьдесят, в зеркалах радости мало. Я спрятался за газетой и попытался читать. Где-то произошло наводнение, одна англичанка родила пятерых близнецов, а правительства Пакистана и Индии послали одно другому решительные и чуть ли не дословно совпадающие предупреждения. Но мне-то было что?
Я получил свой кофе и ром. Пожиратель виноградного пирожного кинул испуганный взгляд на графин, ухмыльнулся и, как мне показалось, возобновил церемонию поглощения с еще большим достоинством. Вот чудак! Пусть лучше полюбуется на меня, когда я запью всерьез!
Не сегодня, конечно. Только не сегодня.
Я повернул стул чуть боком, чтобы в просвете гардин видеть кусочек улицы. Черный угол банка грозно врезался в туманный пар, как кос океанского парохода: еще мгновение — и он раздавит наш утлый приют утех.
Я снова взялся за газету и начал смотреть, что — в кино. Не пойти ли? Вдруг да сумею попасть на последний сеанс. В кино хорошо: сидишь, живешь чужой жизнью, чужими чувствами, и, что странно, они кажутся тебе куда существеннее собственных. А кроме того, приятно сознавать, что вокруг — тоже люди, что весь этот темный зал, пахнущий мокрой одеждой, думает и чувствует так же или почти так же, как ты. В самом деле, не пойти ли?.. Но при всем при том кино — лишь временное средство, таблетка, действующая лишь в темноте: от света до света. А на лестнице тебя опять настигает действительность, и тем беспощадней, чем лучше был фильм. Мы снова в самих себе и сами с собой. Нам даже чуточку стыдно, что на какое-то время стали так одинаковы, и теперь мы избегаем встречаться взглядом. На вечерней улице единодушная людская гроздь распадается на ягоды, и все разбредаются кто куда, чтобы через десять минут ссориться в очередях на такси и автобус. И так всегда, во всяком случае — у меня.
— Я вижу, вы тоже следите за этими прогнозами погоды, — сказал мой сосед, отправляя в рот последний кусочек пирожного. — А хотите знать, что говаривал про это мой отец? Послушайте: «Людское сердце и ветры земные — нам не дано понять…»
Старик рассмеялся сипящим смехом, подмигнул, достал из кармана большой платок в синюю клетку и тщательно обтер рот. Ужасно он был победоносный. У меня почему-то не было своего мнения ни о людском сердце, ни о земных ветрах, но он, кажется, и не ждал ответа,
— Так-то вот, — только и сказал он. После чего лукаво ткнул пальцем в мою наполненную рюмку и тихо, будто сообщал великую тайну, добавил: — А с выпивкой оно так, что от нее голова у человека начинает гудеть, а морская раковина — перестает…
— Морская раковина?
— Ага! Она самая! Вы бы послушали, что за песню поет пустая морская раковина. А налейте в нее водки — ни черта она не споет, молчать будет!
— Но ведь если налить в нее воды, она, полагаю, тоже будет молчать.
— Тоже, это верно, но тут есть разница. Вижу я, молодой человек, что вы не знаете философии! — И он снова засипел смехом, удивительно монотонным пунктирным смехом. Потом вдруг перекусил свой смех пополам, погрозил мне белым бесплотным пальцем, стал абсолютно серьезным, поднялся и, по-старчески волоча ноги, направился в гардероб.
Я принялся за ром. Выпил три рюмки почти залпом. Мне нравится ром. Коньяк на вкус лучше, но он заставляет пьющего умничать. Коньяк — напиток для парней, мечтающих быть остроумными. Ром противен, его приходится глотать, как лекарство, но от него великолепно балдеешь. Если выпить его много, он начинает жать на мозги. Результат получается такой, будто в голове упорно раскрывается проглоченный зонтик. Сравнение, конечно, не из самых удачных, придумал бы получше, но не могу, да и какой смысл?..
— У вас свободно(?)
Будь интонация фразы хоть чуточку вопросительной, я не отказал бы. Даже несмотря на то, что мужчина передо мной был Сильно под мухой.
— Нет, я жду.
— Ждете… Какого еще дьявола вы ждете?..
Вполне симпатичная личность: ширококостый, жестковолосый, лицо немножко топорное, но приятное. Он производил впечатление человека, пьющего часто, но с толком: и блевать не станет, и домой вернется вовремя. У людей такого типа всегда есть при себе волшебный ножичек, с помощью которого они, возвращаясь ночью с пьянки, наладят вам самый хитрый мотор, а утром, проспавшись, вырежут мальчишке ивовую свирель. Дети обожают таких папаш,
— Кого жду? Другого пьяницу, — сказал я, ухмыльнувшись.
Он рассвирепел, но только на миг: ответ ему даже понравился. Бронзовозагорелое лицо расплылось в улыбке, в серых глазах засветилось уважительное признание.
— Что ж, ничего не попишешь.
Он повернулся, увидел, что за соседним столом освободилось место, и, не обращая внимания на возмущенные и отчаянные жесты трех старых дам, влез в их компанию, как петух в стаю кур. Такие редко забредают в это «Казино пенсионеров». Я уже пожалел, что не пустил его к себе, но в некоторых отношениях это было и хорошо: почему-то не умею разговаривать с такими людьми по-настоящему. Может, и сумел бы, но боюсь, что не сумею, и поэтому не умею. В профиль его лицо вдруг показалось мне знакомым. Кто же это? Знакомое же лицо!.. Может, бывшая спортивная знаменитость? Боксер? Нет, нос у него не сломанный. И все-таки, все-таки… Стоп! Попался! Жокей. Ну, точно, жокей или был когда-то жокеем!
Ипподром. Гудящие трибуны, верховой костюм из желтого атласа. Но то, что всплыло вдруг в памяти, нисколько мне не понравилось. Я даже пожалел, что узнал жокея. Пожалел потому, что вместе с ним в воображении возникло второе лицо. Черт, лучше об этом не думать!..
— Наше вам с кисточкой!
На свободный стул упал Рауль, директор комиссионного, мой старый знакомый. Лицо его разрумянилось, похожее на бочку тело запрыгало от неподдельной радости встречи.
— Сколько прошло уже вечеров, а ты сюда ни ногой. Небось, работал, как зверь, а? — спросил он.
— Работал.
Нет, сегодня я не хотел видеть и Рауля. Человек он веселый, но абсолютно лишен способности считаться с чужим настроением. Приведись мне с крестом на спине подыматься на Голгофу, он с таким же розовым благодушием задержит меня на полпути, рявкнет свое «наше вам с кисточкой» и отбарабанит очередную историю (ну, препотешную!), случившуюся с ним еще вчера в трамвае. Когда настроение у тебя не из лучших, такие сочные, радостные, я сказал бы — землянично-мыльные люди доводят чуть ли не до отчаянья, начинаешь чувствовать себя в этом мире безнадежно одиноким.