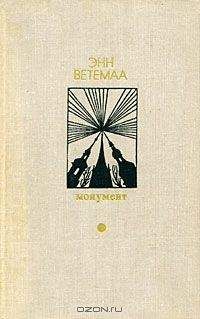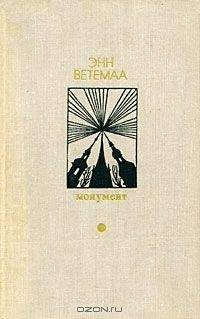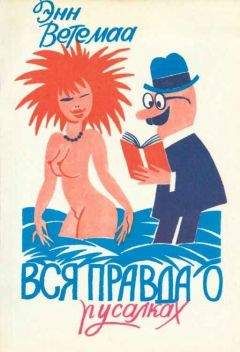Кадык под моей ладонью скачет, как поплавок, весь подбородок усеян кустами жесткой щетины.
Наконец мы переходим к височной артерии. Леа найти ее труднее, чем мне. Она начинает даже сомневаться: мол, кто его знает, есть ли у нее вообще эта височная артерия. Но моя височная артерия хорошо мне знакома: я ведь так часто сидел, сжимая голову руками, наверняка чаще, чем она.
Леа закрывает учебник анатомии. Теперь она знает про сердце ровно столько, сколько требуется.
Я усаживаюсь поудобнее, прислоняюсь спиной к стене. Я с удовольствием послушал бы что-нибудь еще и, может быть, подремал бы. Когда-нибудь Леа будет убаюкивать своих детей, но ей и в голову не придет, что однажды она уже убаюкивала кого-то другого.
И Леа начинает:
— Треугольник ABC подобен треугольнику А1 В1 С1. И она старательно объясняет, почему. Все из-за этой гипотенузы. И еще из-за двух углов. Я задремываю. Мне так хорошо и тепло. Я хотел бы остаться тут навеки, чтобы все время слышать в полусне голос Леа.
Просыпаюсь я почти в семь. Леа спит за столиком, уронив голову на руки. Учебник, рассказывающий о конусовидных сердцах, лежит на полу. За окном на потолке виднеется небо в тучах.
Я встаю, смахиваю с пальто пыль и, крадучись, выбираюсь из сеней.
Утро пасмурное и ветреное. По-прежнему сеется дождь. Лицо обдает мелкими брызгами. Свежо. Желтый молочный фургон подкатывает к магазину. Гремят бутылки. Придется бродить почти целый час — «Централь» открывается в восемь.
Из трубы электростанции тянется веревкой черный, как деготь, дым. От рыбкомбината несет запахом прогоркшего растительного масла. В порту астматически гудит паровоз.
Возле трамвайной остановки ставит свой лоток продавщица с обметанным болячками ртом. Толстый слой пудры или грима, — уж не знаю, что там у нее на лице, — осыпается хлопьями, подрагивающими на щеках, как чешуя. Сегодня лотошница торгует жареными пирожками по тринадцать копеек за штуку.
На Раннавярава, на холме — матросский рай, он же — летний сад. Сейчас ветер громыхает там ржавой жестью. Не то ракеты, не то гондолы какого-то воздушного аттракциона похожи на пронзенные вертелами колбаски. При мысли о сальной колбасе меня начинает подташнивать.
Дохожу до Башенной площади. Убогие чахлые обрубки, гордость таллинцев, угрюмо застыли. На их выступах раскиданы голуби. Они обгадили все башенные стены. Словно в насмешку, репродуктор испускает рев, и я слышу знакомую старую песню, страстную и нежную, — «Родной Таллин», сложенную в дни войны в тылу:
Мне мой северный вспомнился Таллин, его зябкая летняя ночь.
Летняя ночь. Каштановые свечи. Ветер приносит из пригорода запах сена. На сумеречных улицах белеют платья…
Остается полчаса. Гнусный город. Сам я гнусный. Вы и не знаете, как я люблю этот город…
Ратушная площадь. Улица Куллассепа — золотых дел мастеров. Я замечаю поравнявшегося с магазином химтоваров юношу с таким знакомым лицом. В руке у него — набитый до отказа портфель. Инд-рек Лехис? Я вздрагиваю. Заметил ли он меня? Кажется, нет. И непонятно почему, я ныряю в переднюю шляпной мастерской. Неужто я и впрямь боюсь этого Индрека?
Я прислоняюсь к сырой стене передней и перевожу дух. И тут замечаю, что я дрожу всем телом. Даже голова трясется. Господи, до чего же я устал! Излечусь ли я когда-нибудь от этой усталости? Не знаю.
Я знаю одно: скоро откроют «Централь». И вот я иду туда, послушно стою в хвосте, вдыхаю ноздрями несвежий кухонный запах третьеразрядной столовой, изучаю свое отражение в стекле холодильных прилавков, где ломтиками розовеет лосось и зеленеет салат из зеленого лука, и, немного робея перед буфетчицей с мощным телом и злыми глазами, прошу:
— Пожалуйста, пару пива…
А. Д. 1967.
L'art pour l'art — искусство для искусства (франц.).