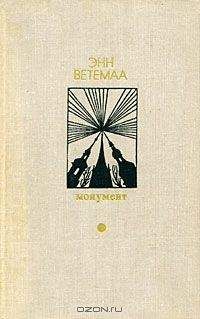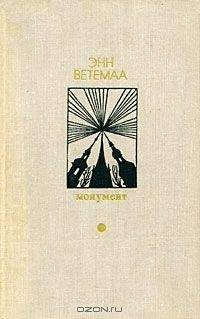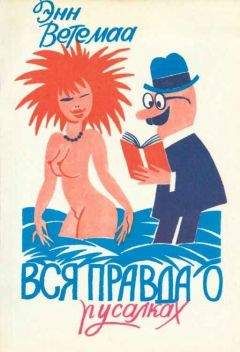Перед Балтийским вокзалом стояло несколько сиротливых такси. Водители дремали, скорчившись на сиденье.
Поднимаясь по каменным ступеням, я поймал себя на мысли, что, как ни странно, мне будет все-таки немного жаль, если этот кошмарный гибрид комода и казармы наполовину разрушат и затем модернизируют. При всем своем безобразии он успел мне все же полюбиться, — я заскакивал сюда по вечерам выпить на ходу чашку кофе и съесть пару сосисок.
Рядом со старым зданием уже вздымаются элегантные своды, новое здание — стекло, бетон, кафель — будет, можно поручиться, модным, только вот сам я вряд ли подойду к этому модному.
Я вошел в зал ожидания. В зале, как и полагалось, царило то дикое смешение суеты и спячки, которое, по-видимому, свойственно железнодорожным вокзалам всего мира.
Вскоре должен был отойти ночной скорый. Молоденький милиционер у входа кинул на меня недоверчивый взгляд, но сразу, впрочем, успокоился: безопасный тип. За спиной у него о чем-то раздумывал темно-коричневый Ленин. Немножко стыдно встречаться с Лениным на вокзалах. Рядом с ним стояла деревенская старуха, поставившая на пол корзину с гусем и гревшая дыханием руки.
Я решил выпить в зале ожидания кофе со сливками. Кофе тут, вопреки ожиданиям, хороший, вот почему я и заглядываю сюда на ночь глядя. Очередь оказалась порядочной. Я взглянул на часы — до отхода скорого оставалось четверть часа. Ждать стоило — хвост этот при всех условиях растает быстро.
Напротив меня спали на скамьях солдаты. Чертовски невоинственные розовощекие парни. Мне нравились эти похожие на детей вояки. Солдату это идет — быть ребенком, — ведь он же придуман детским разумом человечества. Лишь один из них не спал (они, конечно, несли по очереди караул) и приканчивал как раз банку консервов, очень, видимо, вкусных; во всяком случае, он старательно подчистил корочкой все остатки в банке и блаженно улыбнулся.
Я загляделся на него: люди всегда так чудесно улыбаются, если не знают, что за ними следят. Даже когда они ковыряются не в консервной банке, а в носу. И тут мое внимание привлекло устройство, которого я здесь еще не видел: справочная-автомат. Я зажмурился и нажал вслепую клавишу. Во мне зародилось нелепое опасение, что аппарат видит меня насквозь и что тут же появится табличка с надписью: «НЕТ ДЕЛА — НЕ СУЙСЯ!» Но нет, ничего похожего, автомат был послушен. Щелкающие таблички замелькали каруселью, и внезапно одна из них застыла, та самая, чьей обязанностью было сообщать всем, сколько стоит проезд в Калининград.
Что, Калининград?.. Кенигсберг?.. Этого было достаточно. Я, кажется, и впрямь все еще живу в прошлом, раз мои мысли возвращаются к нему снова и снова.
……………………
Во рту опять полно колких рыбьих костей. Откуда-то из темноты всплыл и закачался передо мной призрачный кирпичный дворец, из окна которого строчил пулемет. Не в силах встать, я скреб ногтями землю и вгрызался зубами в горький корень репейника. Свод неба каменел. Плохой знак, — подумал я, — что воздух каменеет. Но он, в самом деле, каменеет, застывает громадными церковными арками, и если бы мне хватило сил крикнуть, надо мной наверняка прокатилось бы эхо… Где-то в подсознании проплывают самые нелепые и неуместные картины: ярко-желтая тыква с распутно-пышными формами на куче компоста, сваленного на задах моего родного дома; беленькая собачка на ярко-зеленом лугу… Собачка ловит свой хвост, кружится волчком. Наверно, скоро и я начну хватать свой хвост, но… но тут надо мной склоняется красное, мокрое от пота лицо. Оно словно из резины. То раздуется таким огромным шаром, что закроет весь горизонт, то станет опять таким же крошечным, как злая булавочная головка.
— Рауль, — шепчу я и теряю сознание.
Когда сознание возвращается, я ничего не могу понять. Я почему-то лечу над обширной, над устрашающе обширной песчаной пустошью, оживленной кое-где одинокими пучками лилового вереска. Пустошь такая унылая и бескрайняя, что это почти невыносимо. Может, надо лететь чуть выше? Но на чем я вообще лечу? И почему то, на чем я лечу, так пыхтит?
— Рауль, — бормочу я, сообразив, что это он тащит меня на спине. — Я… я не выношу тебя. — И тут я снова теряю сознание.
Это и в самом деле Рауль. Рауль Саммалькопс приволок меня на своем горбу к санитарам…
Смерть всегда хитрее нас. Покачиваясь на спине Рауля, я думал, что это ведь уже смерть и что вот она, значит, какая: песчаная пустошь и это предельное уныние.
На самом деле меня ранили довольно легко. Пуля попала не в легкое, а в плечевую мышцу, и приступы забытья были чистейшим блефом со стороны смерти, которая как-никак хитрее нас и которой мы никогда ни в малейшей мере не предчувствуем, когда она приходит по-настоящему. Но глупее всего то, что спасавший меня Рауль сам был серьезно ранен за несколько шагов до цели. Он провалялся в госпитале два с половиной месяца, а я всего дней десять …
Таким образом Рауль Саммалькопс, толстый Рауль, которого мы еще в школе окрестили по названию его любимой игры «Подкидным», совершил безо всякой нужды подвиг, и я должен быть ему благодарен по гроб жизни. Вероятно, психиатры доказали бы, что именно по этой причине я и не могу терпеть Рауля. Черт его знает, может, они и правы.
— Пассажирский самолет ваше время бережет! — прокаркал кто-то за моей спиной. Я обернулся. Это был он: старик-лакомка! Я вздрогнул. Как-никак третья встреча, в этом уже есть что-то мистическое. Но старик инстинктивно прижал покрепче к сердцу свою коробку с пирожными и бочком-бочком попятился к стене и поживей юркнул на перрон. Решил, значит, что это я за ним гоняюсь! На пирожные, небось, покушаюсь? Или на жизнь? Что, на его взгляд, лакомей для меня? Кто он, куда едет? Вряд ли я когда-нибудь узнаю. Зачем мы должны были встретиться трижды за один вечер? Ах, ерунда, просто случайность. Как и все остальное в этом мире. Теперь он сидит в вагоне, со своими пирожными в руках, и медленно приходит в себя. «Вы тоже, значит, следите за сводками погоды? — заведет он вскоре беседу с каким-нибудь попутчиком. — А знаете, молодой человек, что говорил на этот счет мой отец? Он так говорил: «Людская душа и небесные ветры — их никому не понять…»
А поезд все едет и едет и увозит в ночь все дальше и старика, и его пирожные.
Очередь к буфету уже укоротилась. Я взял два стакана кофе и булочку. Кофе был горячий, и по телу растеклось приятное тепло. Мне пришла в голову идея навестить дядю Якоба. Я все еще зову его дядей, потому что он был хорошим другом моего отца. Дядя Якоб служит ночным сторожем на каком-то складе стройматериалов. Я не один раз составлял ему по ночам компанию. Или, может, наоборот: не я ему, а он — мне? Мы жгли с ним опилки в раскаленной докрасна печке и беседовали о том, о сем. Дядя Якоб всегда хорошо на меня действует: с ним я всегда обретаю спокойствие. Я пью чай с белым хлебом, а Якоб хлебает супчик, который еще с вечера приносит в термосе внучка. Да, это чудесно, взять и пойти к нему.
Народ спешил. Чемоданы, узлы, невыразительные от спешки лица. Но тут я увидел одного знакомого, мужчину моих примерно лет, но выглядящего куда моложе, статного плечистого мужчину. Большой и, конечно же, тяжелый чемодан нисколько не обременял его. С любезной улыбкой он пропустил вперед свою весьма молодую спутницу. На миг наши взгляды встретились, и я понял, что он меня заметил, хоть сразу решил сделать вид, что не заметил. Он опять улыбнулся спутнице, та что-то сказала, и вот они уже скрылись во тьме перрона. А мне вспомнился разговор…
— Не городи, Руубен!.. Именно ты, знавший Каррика лучше других, должен взять и составить книгу из его эссе …
Я начинаю смеяться.
— Именно ты, знающий Каррика лучше всех, должен взять это на себя, — повторяю я точно таким же голосом, — Скажи, Тийт, ты не узнаешь этой фразы? Помнишь редакцию «Лооминга»? Не ты ли заказал мне статью о космополитизме в литературной жизни Эстонии?
— Ну, если даже и так, что тут поделаешь?.. К тому же, ведь перед этим ты как раз и выступил насчет Каррика.
— Ты прав…
— И я так думаю. Тогда кому же, если не тебе, и привести все опять в порядок? Исправить свои ошибки?
Мы продолжаем идти молча. Он поправляет на голове свою великолепную беличью шапку. Она здорово ему идет. Впрочем, вполне возможно, что и здорово не идет, но мы всегда склонны видеть людей именно такими, какими нам хочется их видеть. Это тот самый Тийт, который всегда был опрятен и солиден, Тийт, который все и всегда понимал с ходу, Тийт, который никогда не ошибается, а если и ошибается, то исправляет свои ошибки вовремя…
— Ты установил недавно мемориальную доску. Кажется, Коомелю, да?
— Да, Коомелю. Мраморную доску повесили на хуторе, где он родился. И знаешь, Руубен, на открытии я словно бы освободился от какой-то грязи, которая годы подряд житья мне не давала.
— Освободился? Что ж, это прекрасно.