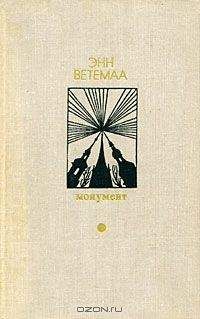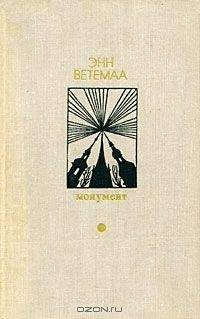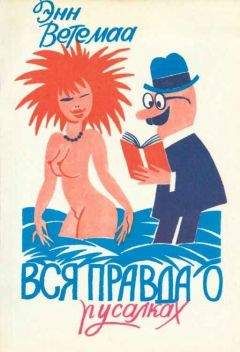Но куда глупее то, что в конверте наверняка лежат деньги. Ведь я зарабатываю в месяц по крайней мере в три раза больше, чем она. И если даже мне иногда случается пропивать все деньги, все равно я никогда не сажусь на мель: раньше поэты голодали, верно, и, может быть, тем больше были поэтами, но в наш век и в нашем государстве большинство пишущей братии живет зажиточно. Зажиточные мелкие производители… И в долг им дают охотно.
Я разорвал конверт. В нем было письмо и — деньги. Первым делом я пересчитал под фонарем деньги: шестнадцать рублей. Десятка, пятерка и рубль. Рубль-то и доконал меня: Маарья наверняка вложила его ради жеста — дескать, вот как я тебя, чувствуй!.. Но если этот рубль положен безо всякой задней мысли, а лишь потому, что она хотела послать мне все, что могла, тогда дело совсем дрянь. Я запрещал Маарье посылать мне деньги раз десять.
Нет, раз двадцать! Обычно она начинала плакать, и я понимал, что запрещать ей по-настоящему нельзя. Человек с какой-то тупой одержимостью старается принести себя в жертву — ну, как ему это запретить? Ручаюсь, что когда она заклеивала конверт, лицо у нее было блаженное, как у мадонны или кормящей матери. Детей у нее (может быть, сказать: у нас?) нет, а природа требует своего. Вот и приходится бесплодной женщине заниматься бесплодной благотворительностью.
Я вложил шестнадцать рублей в бумажник и подсчитал свою наличность. Чего бы мне устроить на эти деньги? Небось, нужно бы купить новую шляпу. И туфли. Завтра куплю. Обязательно! Но почему-то я не совсем в этом уверен: обычно я откладываю такие покупки месяцами. Нет сил! Не на то, чтобы купить новое, а на то, чтобы отказаться от старого.
Сам не знаю, почему.
Мне захотелось есть. Стоит пройти приступу злобы, как меня всегда одолевает голод. Довольно вульгарная закономерность, но что поделаешь?
Я направился в «Du Nord». Для меня он остается «Du Nord'ом». Не из-за пристрастия к французскому языку, нет, а просто потому, что в отличие от остальных, этот ресторан мало изменился. Он все тот же «Du Nord», и посетители в нем почти все те же.
Швейцар не знал меня. Это был рыжий долговязый парень с голодным лицом и рыбьими глазами. Такому не сунешь чаевых на трезвую голову, а у пьяных он, небось, сам отбирает. Впрочем, лицо у него, может, и не было слишком уж алчным, просто я заметил случайно, что на столике за углом дымилась селянка. Да, он не знал меня, — наверно, я видел его здесь всего раза два. Пока швейцары тебя не узнают, немножко завидуешь тем, кого они знают, но стоит познакомиться с ними, как это становится обузой. К сожалению, меня помнит большинство таллинских швейцаров, поскольку я часто ем в ресторанах; пью, конечно, тоже, но не чаще трех раз в месяц. Я, в самом деле, выпиваю не чаще, чем каждый пятый, ну, скажем, каждый седьмой литератор. Мастером же набираться меня считают, наверно, потому, что, как правило, я пью один, никогда не косею и не скандалю. Если же человек косеет и затевает скандалы, то его считают просто веселым малым. А вот пить в одиночку — это уже более редкое и запоминающееся явление.
Я, как всегда, поднялся на второй этаж и сразу нашел свободный стол. Рядом с голландской печью. В ресторане с такой обнадеживающе домашней голландкой ощущаешь необычайное спокойствие и уют…
Я заказал рыбную селянку и эскалоп.
Заиграл оркестр. Почти безголосый мужчина запел древнего «Вильяндиского лодочника». Его чахлый голос не раздражал меня, а был даже приятен, как и эта печь, но почему-то певец старался петь чужим голосом, без конца строил танцующим глазки и всеми силами изображал из себя дьявольски коварного бабника. В действительности же он смахивал на многодетного отца е язвой желудка и, наверно, собирал марки.
— Извините, не могу ли я?..
У стола стоял юноша с большим желтым портфелем, набитым до отказа. Обычно парни такого возраста не ходят в ресторан с набитыми портфелями. Я позволил ему подсесть.
— Простите, вы, должно быть, Руубен Иллиме?
Я кивнул. Вот же невезение! Если этот юнец начнет вдруг читать стихи, небось, жевать будет неприлично. И селянка остынет. Глупая история. Но, очевидно, есть все-таки никак нельзя. Эти сопляки вычитали из учебника:
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил…
Воображаю, как задрожит его голос, если под его сонет, воспевающий лунное сияние, я стану прихлебывать суп.
Появилась селянка.
Малый заметил мою нерешительность и ухмыльнулся. С какой-то неожиданной самоуверенностью, будто я, а не он, был начинающим поэтом.
— Ешьте-ешьте! Мне это не помешает. Ешьте смело!
Я, колеблясь, взял ложку и вдруг разозлился. Хорош, всех переобижал — и Рауля, и старика с капустой, а тут позволяю какому-то молокососу заявлять: «Ешьте смело… Мне это не помешает!» Я прямо-таки ожесточенно накинулся на селянку. Даже и не собираюсь его слушать!
— Видно, очень вкусная селянка, — уважительно заметил юнец. У него был своеобразный певучий бас. И этот голос, и размеренный, как бы самоупоенный ритм речи забавно и в своем роде обаятельно контрастировали с его детским обликом. Я следил за ним уголком глаза и никак не мог понять, что же, в конце концов, он собой представляет. Его воротничок не отличался особой чистотой, на ногах у него были огромные неуклюжие бахилы — при всей своей небрежности я не рискнул бы явиться в таких в ресторан. Как его только пустили? Взгляд же у парня был одновременно и озорной и серьезный, — словом, безусловно смышленый.
— Вы пишете стихи?
— Нет.
— Значит, прозу?
— Честно говоря, иногда пишу.
«Кто же вы по существу такой и чего, черт подери, вам от меня надо?» — чуть было не спросил я, но, взглянув мельком на его светлые вихры, неожиданно для самого себя сказал:
— О чем же написана ваша последняя вещь?
— Вам в самом деле интересно?
— Я же спрашиваю.
— Ах, речь идет об эстете и дизентерии.
— Странный комплот.
Парню принесли его кофе и минеральную воду. Принесли почти сразу — вот что интересно. Он дружелюбно кивнул официанту и нагнулся, чтобы разглядеть этикетку на бутылке.
— Но это же боржом! А я просил нарзан, — сказал он все так же дружелюбно и попросил обменять бутылку.
В его возрасте, да что я говорю, и в своем гоже, у меня не хватило бы на такое духу. Официант тупо посмотрел на парня и увидел… Сам не знаю, что он там увидел, но тут же извинился и принес другую бутылку. На этот раз — уже нарзана.
— Вы, кажется, сказали «странный комплот». Не совсем верное слово. Комплот — ведь это что-то вроде заговора, — невозмутимо продолжал он.
— Комплот или не комплот, но странно же, странно, что вы скомпоновали в одно две столь разных вещи. Кстати, ваш эстет заболевает дизентерией и умирает?
— Так точно.
— Жалко.
— Почему жалко?
— Я уже догадываюсь, каково содержание рассказа … Эстет заболевает, эстет страдает от крайне неэстетичной болезни. Эстета посещают в агонии эстетические видения, эстет умирает чертовски неэстетично. — Все это я сказал ничуть не злобно, с таким парнем, наверно, и невозможно говорить злобно, но мне было поистине жаль, что его рассказ настолько совпал со схемой юношеских рассказов.
— Полагаете, лучше было бы, чтобы оставались и эстет, и дизентерия, но чтобы эстет не болел дизентерией? Но, по-моему, таков сюжет всех рассказов, где существуют эстеты, а что до дизентерии, так она и без того существует всегда. — И он дружелюбно улыбнулся.
— ?
Юноша прихлебывал кофе, запивая каждый глоток нарзаном.
— Так пьют в Бразилии. Кофе по-бразильски. С газированной водой. Газированная вода смывает во рту вкус кофе, так что каждый глоток кажется таким же ароматным, каким бывает только первый глоток. — Он замолчал и, блаженно щурясь, предался дегустации своего напитка, а я занялся селянкой … Но тут он снисходительно сказал:
— Ладно, расскажу вам сюжет своей истории, хотя она вряд ли вас интересует и я побеспокоил вас не ради этого.
Он снова глотнул кофе. Своего кофе по-бразильски.
— Итак, есть эстет и эстет заражается дизентерией. Вы, вероятно, знаете, что определить дизентерию можно лишь по анализу экскрементов… Не испорчу ли я вам аппетит? — Я мотнул головой. — Но эстет отказывается сдавать на анализ экскременты, это кажется ему отвратительным до ужаса. Никто не знает, чем он болен, иными словами, эстет никому ничего не говорит и бежит из дома в лес. Там он умирает от дизентерии. И все.
Парень кончил рассказывать и посмотрел на меня крайне серьезно.
— Весьма… весьма странная история. Вы, что, осуждаете этого эстета? — Я не знал, что сказать.
— Почему осуждаю? Я же не работаю на санитарно-эпидемиологической станции!
— Значит, вы находите, что все это разумно?
— Вовсе нет. Чего же тут разумного?
— Стало быть, это аллегория?