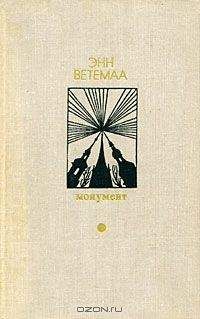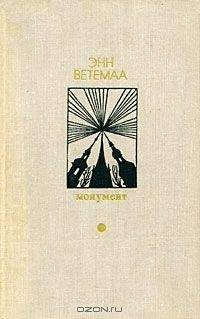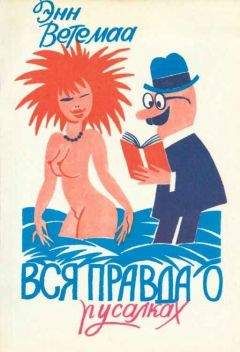— Честно говоря, не имею и представления об искусстве раннего ренессанса. Так что не думаю, чтобы именно…
— Верю, верю! Какое же может быть представление при таких пробелах в образовании, как у вас… Но познакомьтесь, например, с Джотто, Маскаччо и особенно с Филиппо Липпи — думаю, они вам очень понравятся.
Я сунул руку во внутренний карман, чтобы достать платок. Я сильно подозревал, что он окажется грязным, но мой лоб опять стал совсем мокрым. Вместе с платком я нечаянно вытащил коробку из-под «Честерфилда».
— «Честерфилд»! Извините, но если вам не нужна коробка, может, вы подарите ее мне. Я, понимаете ли, собираю сигаретные коробки. — И парень улыбнулся, но отнюдь не застенчиво. — Довольно нелепые у меня увлечения, правда?
Я не нашелся, что сказать, а просто отдал парню коробку, и он, счастливый, спрятал ее в портфель.
— Это после Англии? Вы ведь недавно ездили, я знаю… Это, наверно, чудесно — так вот ездить…
Я насторожился, поскольку всего лишь дня за два, за три слышал ядовитую реплику о частых поездках писателей за границу: «Вышедшим в тираж сочинителям нашлось наконец подходящее занятие — шляются по всем странам, есть хоть оправдание, что так мало пишут…»
Но во взгляде юнца не было сарказма.
— Да. В вашей одухотворенности в самом деле что-то есть от раннего ренессанса, — продолжал он без запинки. — Вы словно бы жаждете какой-то чистоты, и в этой жажде столько простодушно детского. В ваших ночных картинах есть кабацкая тоска. Ночи у вас такие, что, извините меня, но чувствуешь: и помойка где-то рядом, и под ногами гнилые помидоры валяются — того и гляди поскользнешься. И вот из этой грязноватой липкой почвы картофельного цвета, которую вы творите как бы из ничего, с помощью одного ритма или случайных нюансов цвета и запаха, и прорастает в своей очаровательной хрупкости ваша наивная жажда чистоты. Ваши почти несформулированные идеалы нежны и прозрачны, они вроде ростков, очень бедных хлорофиллом, но все-таки пробивающихся и пробивающихся из-под земли наперекор всему. Да-да, именно мастера раннего возрождения и умели изображать на полотнах эту хрупкую жажду совершенства. Кстати, если говорить о современной живописи, нечто подобное есть и в картинах Сарапуу.
Я опять выпил коньяку. За соседним столиком сидели молодые накрашенные девицы. Они с нескрываемым интересом пялились на моего собеседника, но тот не обращал на них никакого внимания. Но он ведь не обращал особого внимания и на меня. Я не мог решить, так ли уж глубоко был он прав в своих рассуждениях, но во всяком случае… во всяком случае… Да, я чувствовал себя словно бы голым.
— Ну, а впредь, в будущем? Должен ли я, если допустить, что вы правы, продолжать в том же духе? — Поистине я уже обращался к нему как молодой поэт к опытному консультанту!
— Каждый должен решать сам, чего ему держаться. Если говорить честно, то, по-моему, путь, которым вы идете, почти закончен. Иными словами, есть опасность, что возможности этой манеры скоро будут исчерпаны… Придется уж вам самому искать какого-нибудь ответвления.
Это и впрямь совпадало с моими опасениями.
— Ах да, вы знаете стихи Георгиоса Сефериса? Нобелевского лауреата шестьдесят третьего года? — спросил парень.
— Совсем не знаю.
— Вам стоило бы познакомиться. Кажется, у меня кое-что прихвачено…
Он начал рыться в своем угрожающе набитом портфеле. Я посмотрел на этот портфель, как на какой-то сундук сокровищ, и мне опять стало совестно перед самим собой.
— Ага, вот оно… «Цистерна». Могу вам прочесть.
Я увидел, что у него отстукано на машинке несколько экземпляров этого стихотворения.
— Знаете что, лучше не читайте здесь! У вас их несколько, подарите одно из них, — я улыбнулся, — взамен «Честерфилда».
Идея обмена позабавила и его. Он спросил, нет ли у меня еще заграничных коробок, и мы условились меняться таким же образом и в будущем. Парень допил свой нарзан — кофе он допил еще раньше — и на миг задумался. Потом поднял глаза и спросил:
— Товарищ Иллиме, больше всего в вашей жизни меня интересует период с сорок восьмого года по пятьдесят первый. Данные моей картотеки весьма сомнительны.
— Это… Это был сложный период. Может, поговорим о нем как-нибудь в другой раз? — Я был в замешательстве.
— Как хотите… Н-да, — он бросил взгляд на часы, — сегодня я и без того отнял у вас достаточно времени. Если у вас вдруг возникнет желание, позвоните мне.
Парень вырвал листок из записной книжки и написал: 2-75-22. Индрек Лехис.
— Обязательно позвоню.
Он поднялся, добродушно кивнул мне и, грохоча своими огромными бахилами, пошел через пустую танцевальную дорожку … Один из его нелепых длинных шнурков опять развязался.
Я снова остался один.
Перерыв у музыкантов кончился, и они заиграли. Филателист с язвой желудка (я уже не мог думать о нем иначе) запел про какую-то синюю птицу. Пары ринулись на узкую танцевальную дорожку. Изрядно набравшийся мужчина смотрел на свою пожилую партнершу в безобразном младенчески-розовом платье таким взглядом, будто она и впрямь была синей птицей. Впрочем, кто его знает, может, и была: синие птицы тоже старятся.
Следующим был объявлен танец для женщин. Белокурая девушка за соседним столиком поднялась и пригласила меня. А почему бы и нет? Я интересный мужчина зрелых лет — как-никак неведомая земля.
Я повел ее к дорожке. Девушка была молодая и отчаянно размалеванная. На миг я ощутил к ней какое-то подобие нежности. Свою, уж конечно скромную, зарплату она тратит на тряпки, косметику и помаду, по ее лицу можно догадаться, что жизнь уже нанесла ей несколько ударов, и теперь она готова на все, лишь бы найти наконец человека, на этот раз настоящего. Милые, чуть-чуть подпорченные девушки, хоть бы вам-то повезло!
— Вы хорошо танцуете, — сказала девушка, чтобы что-то сказать.
— Неужели? Вот досада!
— Почему же — досада? — Она взглянула на меня с подозрением: небось, этот запах рома с коньяком …
— Кто плохо танцует? Тот, кто не решается обнять девушку как следует. Но лишь такой человек и такой танец чего-то стоят.
— Вы, наверно, хотите сказать, что вы опытны… И она многообещающе рассмеялась. Может быть, у нее слабость к таким, как я, может, у нее возникла надежда разбудить меня. У женщин бывает такое желание. Я сжал ее и привлек к себе. Девушка сверкнула белками: она была согласна. Я вдруг почувствовал ее крепкое тело и решил было пригласить ее за свой стол, но тут же передумал: для этого она мне слишком нравилась.
Танец кончился. Девушка явно ждала, что я подам ей знак, но я молча проводил ее назад. К счастью, опять начался небольшой перерыв. А не то мне пришлось бы из вежливости танцевать с этой девушкой еще раз.
Я расплатился и встал.
В баре было почти пусто. Двое похожих на актеров мужчин яростно спорили о чем-то, на одном был темно-красный галстук бабочкой. Официантка сидела в углу и. сладко позевывая, наводила себе маникюр костяной пилочкой. Я спускался по лестнице по толстому красному ковру, заглушавшему шаги, и, как всегда на этой лестнице, испытывал странное чувство.
Да, каждый раз, как я спускаюсь отсюда, меня охватывает странное чувство кружения над чем-то, чувство карусели, когда под сердцем что-то шипит и щекочет. Говорят, перед глазами утопающего, засасываемого в омут, успевает поразительно отчетливо промелькнуть вся его жизнь. Мой омут — эта бесконечная лестница: спускаясь по ней, я как бы покидаю самого себя и вижу Руубена Пиллимээса со стороны.
… Растянувшийся на краю канавы мальчик, глядящий из-под прикрытых век в небесную синеву: удивительные краски, гудение шмеля и едва уловимый, но все же такой отчетливый сырой запах замшелой каменной ограды; мальчик немного несчастен — у всех его сверстников уже растут волосы на ногах, а у него — нет; волосатые ноги — признак мужественности, волосатые ноги наверняка нравятся девушкам (но в мыслях он говорит не «девушкам», а «женщинам» …). Ну и что, скоро его ноги тоже станут волосатыми! Но нет, не стоит себя утешать, надо быть гордым, — зато в нем есть что-то такое, чего нет в других: он понимает небо и пчел, когда они в самую меру пчелы, и умеет следить за работой пчелы изнутри. А вот остальные не умеют. И это означает, что когда-нибудь он должен будет писать книги, что у него есть долг. Этот мальчишка на краю канавы… ох, и гордый же он!
Ну да, спускаясь с этой лестницы, я вижу и других Руубенов. Прямо-таки волшебная лестница. Вижу уверенного в себе Руубена на выпускном гимназическом вечере, робкого и старательного Руубена в гостях у отца Маарьи, Руубена, грызущего от боли корень репейника и царапающего ногтями землю: Руубена-солдата под Кенигсбергом, раненного в спину и чувствующего, что жить ему осталось минуты. Никогда он уже не рассмотрит вблизи этот дворец из красного кирпича, этот загадочно дрожащий в воздухе, тающий и рассеивающийся красный дворец, из окна которого строчит немецкий пулемет. Руубен грызет корень репейника, и у него такое чувство, будто он глотает рыбьи кости: и рот, и гортань, и весь он набит колючим крошевом рыбьих костей. Только пули в спине он не чувствует…