И не раз потом в сумерки, с наступлением моего часа, я буду украдкой отодвигать оконные занавески, снова и снова пытаясь хоть в какой-то степени восстановить таинственный миг и те часы, которые пошли-побежали за ним следом, когда начался отсчет времени… Я вглядывался в темноту, но ночь прятала от меня двор и окно и ничего не давала мне, лишь вселяя в мою душу тревогу, сходную с чувством вины за неблаговидный поступок. А может, это и в самом деле было с моей стороны нехорошо — пытаться что-то узнать и увидеть?
Постепенно из этих безнадежно мутных глубин мне удается извлечь слабый крик совы, незримо обитающей в ветвях акации, тявканье пса на соседнем дворе, а потом сквозь бездны забвения пробивается еще один образ, неожиданно сочный и свежий из-за своей необычности: сначала слышен приглушенный шум детской коляски, катящейся на мягких рессорах; этот звук убаюкивает меня, я вдыхаю запах откидного верха, поглаживаю ладошкой гладкую поверхность кузова, испытывая ощущение безопасности, которое дополняется чудесным видом, возникающим передо мной из-под сводов моего экипажа. Коляска катится по синему, залитому ярким сиянием небу, но может показаться — как при оптическом обмане, — может показаться, что движется вовсе не коляска, а само синее небо и весь окружающий мир вращается вокруг некоего центра, слитого с моею персоной, а вернее, с двумя нашими персонами, ибо из-под свода кузова я вижу лицо женщины, которая толкает коляску перед собой и улыбается мне, — лицо моей матери… Мелькают и исчезают прутья ограды. Из этого я делаю вывод, что мы въехали в Люксембургский сад. Улыбка, синева, движение и необычайное чувство покоя, ибо меня окружает двойная защита — стенок коляски и этого лица, чье присутствие особенно ощутимо благодаря моей полулежачей позе, словно лик Вседержителя в арке византийского свода, — вот все, что выступает из мглистой туманности, притаившейся за спиной ребенка, жадно приникшего к окну, к моему окну, и я думаю, что насыщенность этой картины, ее четкость и полнота, четкость, над которой не властно время, связаны с ее исключительностью. Подтвердить это предположение я смогу, лишь повествуя о последующих событиях моей жизни. Пока скажу только о том, что с самого раннего возраста я начал болеть.
В самом деле, не довольствуясь тем, что на свет я явился с запозданием, через несколько месяцев я предпринял попытку вернуться обратно в небытие и в качестве предлога использовал для этого воспаление легких, в результате чего, согласно семейному преданию, оказался па волосок от смерти. С волнением, к которому примешано и некоторое удовольствие, я слушаю этот драматический рассказ, где заключено и нечто серьезное, и элементы игры. Серьезное — это смерть, — ведь я понимаю, что с такими вещами не шутят; игра же коренится в некоторых перипетиях этой истории: вплотную приблизившись к рубежам невидимого, когда я вдруг посинел и лишился чувств, я с помощью кудесника доктора опять обрел живой цвет лица; он вдохнул мне в уста тот самый дух, который я собирался было испустить, и моя попытка к бегству обернулась эффектном номером фокусника. К слову сказать, я потом не раз пробовал его повторить.
Сердясь и капризничая, чтобы разжалобить окружающих, я буду снова и снова лишаться чувств, то есть достигать такого пароксизма воплей и судорог, который ввергает человека в роковое беспамятство. Вся сложность заключается в том, чтобы соблюсти дозировку притворства: если она перейдет за определенный порог, актер попадает в собственную ловушку, что со мной нередко и происходило. Тогда мы снова переживали трагическую минуту семейного предания. Твердо помня уроки прошлого, мать разжимала мне рот и, приложив свои губы к моим, как это делают, откачивая утопленников, вдыхала в мои легкие воздух, насильно возвращая меня к жизни. Это и радовало меня, и раздражало. Прикосновение материнского рта было приятно, но такая механическая интимность лишала меня моего главного оружия.
Сколько времени длилось это время? Но знаю. Может быть, мы лишь потому ничего о себе не помним, что уже не попадаем в обстановку, где проходили события нашего детства; мой опыт с лотарингским домом под серым небом как раз об этом свидетельствует. Доведись мне снова оказаться в квартире, где я появился на свет и разыграл первую в своей жизни комедию смерти, я, может быть, воскресил бы еще целую вереницу утраченных образов, которые весело сопровождали бы картину моего безоблачного счастья в этой катящейся коляске и улыбающегося лица на фоне синего неба. Говорю об этом но без некоторой ностальгии. Увы, мне дано увидеть лишь двор да маленького узурпатора на балконе, лишь негативную географию, запечатленную на потолке у молодой вдовы…
Мой свинцовый сон. Обсерватория, где я подстерегаю наступление сумерек и появление ребенка-зеркала, — это комната, в которой я живу вместе с родителями.
Я сплю в металлической кровати-клетке, стоящей вплотную к стене. Кровать затянута материей, за которой я полностью исчезаю, стоит мне лечь. Погружаясь в сон, я никого не вижу, и никто не видит меня. Не знаю почему, но в этой мнимой слепоте, напоминающей о повадках страуса, есть для меня что-то успокоительное. Я люблю забраться в свое убежище и уютно залечь в нем, прижав к себе непременного спутника младенческих лет, плюшевого зверюшку — мохнатую обезьянку, которая не знает износа и которую я люблю безрассудной любовью.
Мы мгновенно погружаемся с нею вдвоем в мир непроницаемого мрака, столь же густого, как тот, что предшествовал появлению на свет, и оба просыпаемся в тех самых позах, в каких заснули, так что иногда я сомневаюсь, в самом ли деле я спал. В детстве у меня был хороший сон, даже слишком хороший, потому что засыпал я без малейших усилий и мог спать до бесконечности долго, пребывая во власти растительного оцепенения, ведущего к полнейшей отрешенности от самого себя; эта моя склонность к самозабвенному сну, должно быть, каким-то образом связана с трудностью самого процесса моего появления на свет и с тем, что, фактом своего рождения вырванный из сладостного небытия, я тут же снова попал в объятия наступившей к тому времени ночи. Моя родня еще долго будет сетовать на мою медлительность, как физическую, так и умственную: неизгладимое последствие, как я полагаю, все того же столь милого моему сердцу ночного сумрака.
Даже еще и теперь, когда благодать глубокого сна, лишенного сновидений, давно меня покинула, я храню доставшуюся от него в наследство инертность: проснувшись, я долго лежу неподвижно, не в силах выбраться из лабиринта ночных видений, и мой отпечаток хранится в матрасе незыблемой вмятиной. По вечерам я снова погружаюсь в эту ложбинку, не нарушая ее очертаний, и временами без всякой тревоги думаю об окончательной неподвижности, которая ждет меня впереди, и о том, что не будет, пожалуй, особенной разницы между первой и последней позами моего тела.
Пристрастие ко сну пе мешает моим безуспешным попыткам проникнуть в тайну переходного состояния. Позже на помощь мне придет болезнь, и, лежа в жару, я буду прислушиваться к пререканиям взрослых и гулкому звону большого колокола, отбивающего часы на соседней церкви. Я отчетливо вижу комнату в ее ночной географии; зимой ее озаряют отсветы огня в камине, и напротив родительской кровати смутно белеет прямоугольник зеркального шкафа. Нужно ли говорить, что в отличие от большинства детей я не боюсь темноты. Я ей даже признателен, ведь она помогает моему саморастворению в глубинах моего полотняного замка.
Я упомянул родительскую кровать. От нее меня отделяет глубокий ров. Кровать у родителей огромная — или кажется мне огромной; она из красного дерева, с полированным изголовьем, и, когда у меня повышается температура, ее гладкая стенка приятно холодит мне затылок. В изножье кровати высится шкаф, его зеркало отражает спящих на кровати людей; все мое раннее детство отмечено неизменностью этой картины. Чем чаще я буду болеть, тем больше родительская кровать будет становиться моей кроватью, а пока что она — предмет моего самого пристального и довольно нескромного наблюдения.
Случается, я просыпаюсь раньше обычного. Стараясь не шевелиться, я настороженно ловлю малейшие звуки, слушаю, как щебечут птицы в ветвях растущего во дворе дерева, как снова звонит большой колокол; я чувствую за ставнями трепет близящегося рассвета и знаю, что пространство комнаты делается уже различимым. Тогда я осторожно сажусь и, стараясь не шуметь, поверх медного прута, отделяющего меня от остального мира, смотрю на родителей. Я рад, когда мне удается застигнуть их еще спящими; я погружаюсь в созерцание их неподвижных тел, и меня охватывает удивление, смешанное с беспокойством. Я почему-то не вижу сходства между их сном и моим. В их неподвижности мне вдруг начинает чудиться неестественность, я тороплюсь увериться в том, что неподвижность эта неполная, напряженно всматриваюсь в простыни, которые слабо шевелятся па груди и в ногах, вслушиваюсь в дыхание; для вящей уверенности мне очень хочется их разбудить, но я не решаюсь. Отец лежит ближе к моей кровати и отделяет от меня тело матери, но в будни место отца к этому часу обычно уже пустует, и я тороплюсь поскорей обнаружить эту пустоту.
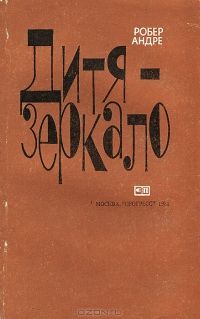


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

