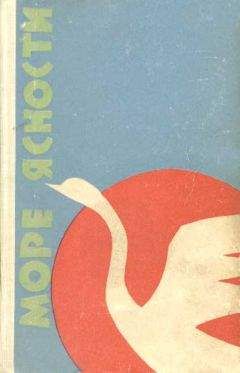Он не понимал причин этой боязни. Не понял и дядя. Он спросил:
— Зачем ей это надо — мне вредить?
Капитон, как и всегда, ответил прибауткой:
— Если у Гурия башка не дурья — сам поймет.
Стол для детей накрыли Отдельно в маленькой комнате. Им дали всего понемногу, всяких закусок и две бутылки ситро.
Васька вбежал в самый последний момент, он что-то жевал на ходу. Втягивая воздух носиком-репкой, он нетерпеливо спросил:
— Ну, кто тут из вас хозяин? Наливай!
— Хозяйка тут буду я. У меня влазины, — степенно объявила Тая. — А ты — гость и не командуй.
Она налила всем по стакану ядовито-желтого ситро. Васька сейчас же схватил свой стакан, стукнул им по столу и потянулся чокаться, приговаривая:
— Влазьте — поселяйтесь, только потом не кайтесь… Жить вам веселиться, деньгами подавиться, в вине утопиться, с соседями всю жизнь биться… Живите, будьте здоровы!
Жеманничая так же, как и ее мать. Тая тоненьким голоском подхватила:
— И вам дай бог тем же концом по тому же месту! Пейте, гости дорогие!
Они лихо опорожнили свои стаканы, остатки расплескали по полу и стенам.
А Володя, жарко дыша в стакан, выпил все до капли. Он не знал, что надо делать на новоселье. Ему никогда не приходилось бывать на пирах и гулянках, и, конечно, он не знал, как и когда надо пить и что говорить при этом.
Когда все ситро было выпито, Васька встал и начал представлять, как будто он пьяный возвращается домой. Он ходил, покачиваясь, вокруг стола, ерошил свои и без того лохматые рыжие вихры, говорил всякую чепуху и нарочно натыкался на стены. А Тая хватала его за руки и бабьим голосом уговаривала:
— Да что ты, Христос с тобой. Да поди ляжь… Наградил меня господь…
А он смеялся и отталкивал девочку.
Володе не понравилась эта игра. Он толкнул Ваську так, что тот упал на сундук и затих.
— Как не стыдно! — закричала Тая. — Он ведь понарошке.
Володя думал, что Васька сейчас вскочит и, как полагается, даст сдачи, но тот лежал на сундуке и храпел совсем по-настоящему.
Тая, потрепав Васькин чуб, объявила:
— Ты знаешь, он и в самом деле уснул. Наверное, ему дали вина там, у больших.
— Ему отец часто дает вина, — сообщил Володя.
— А ты когда-нибудь бывал пьяный?
— Нет, и не буду.
— А когда вырастешь?
— Тоже не буду. Никогда не буду пить.
Тая как-то особенно поглядела на него и тихо спросила:
— Ты, что ли, старовер? Да?
Володя не понял.
— Какой старовер?
— Вера такая есть, не настоящая. Они в церковь не ходят, вина не пьют. Грех им, — зашептала Тая. — Я сразу поняла, что все вы тут староверы, и старуха эта. У нее, наверное, молельня в задней комнате. Я знаю. В окне ставня и никогда не открывается. Она там своему богу молится. Да?
Вот ведь сколько наговорила! Ничего понять нельзя.
— Ох и дура ты. Какая молельня? У них, знаешь, что?
— А ты там бывал ли?
— Сколько раз, — ответил Володя и начал рассказывать о всех чудесных и красивых вещах, которые он видел в комнате с плотно закрытыми ставнями.
Девочка слушала его не перебивая. Очевидно, она не совсем поверила Володе, потому что спросила:
— А отчего же тебе вина нельзя?
— Хочешь, скажу. Только ты самое честное дай, что будешь молчать.
— Вот тебе крест, — сказала Тая и перекрестилась.
— Зачем ты? — опешил Володя.
— Это я так, — смутилась Тая, — по привычке. Ну, рассказывай.
— На Луну хочу полететь.
Тая так широко открыла глаза, что они стали совершенно круглыми.
— Ох, тошно мне! — удивленно прошептала она.
А Володя продолжал:
— Знаешь, какое здоровье надо иметь? Стальное!
— Ох, тошно мне, — повторила Тая, теперь уже посмеиваясь. — Все мальчишки собираются на Луну.
— Ну уж и все, — обиделся Володя.
— Все, все. В школе, где я училась, в селе, мальчишки даже уже приготовляются, они испытания делали: кто выше всех спрыгнет. Один даже ногу сломал. Умора. Его в больницу положили.
Она еще что-то болтала, но Володя не слушал ее. Подумать только, где-то в деревенской школе тоже собираются лететь. Этак, пожалуй, столько желающих наберется, что на всех и ракет не хватит. Определенно не хватит. Этот вопрос надо обдумать. Скорей бы уж Венка из своего лагеря приехал.
Володя открыл окно и выпрыгнул во двор.
Со стороны навеса слышались голоса. Володя прислушался. Говорил дядя. Он стоял на коленях перед кроличьей клеткой, прислонившись лбом к проволочной сетке. Можно было подумать, как будто он разговаривал с кроликами:
— Ты мастеровой человек, тебе это никак не понятно. А я мужик. Я хозяйством заражен. В метеесе кладовщиком состоял. У меня и профсоюзный билет есть. Понял? Направление жизни, значит, нам понятно. Свиней я держал, пока можно было. Золотое дело. Каждая — три-четыре тысячи — дай сюда!
Он, стоя на коленях, звонко похлопал себя по карману.
В темноте вспыхивал огонек папиросы и раздавался хрипящий голос Капитона:
— С кроликами этак не разлетишься. Нет. Не тот товар…
— Кролики, — бубнил дядя, — это я не для калыма. Это, как бы тебе объяснить, для скуки. Для души… Не могу я без живности существовать. Должен я чего-то выращивать. Хряпку готовить, кормить. Жуйте, милые, хряпайте, нагуливайте граммы, эх вы, братья-кролики, эх вы, толстозадые… А потом: хрк! — дядя оттопырил большой палец и ткнул им себя в горло и рассмеялся так, будто его Пощекотали под мышками. — Шкуру долой и на рынок.
— С кроликов, говорю, не разживешься.
— Так ведь не для денег, говорю тебе, для души. Мне живность возращивать по душе. Кроликов запретят, тараканов разводить стану или еще чего.
— Нежная у тебя какая душа…
— Правильно! Душа у меня каменная.
— А карман?
— Ты карман мой не щупай. У меня в кармане кулак, а в кулаке деньги. Вот так. Отнять возможно вместе с кулаком. Вот какое дело, братцы-кролики.
Капитон поплевал на папиросу и неопределенно спросил:
— А сестрица двоюродная как?
— Она — хозяйка, — так же неопределенно ответил дядя.
Капитон посоветовал:
— Ты гляди да поглядывай. Она идейная. Шибко-то развернуться не даст.
Дядя поднялся и где-то под самой крышей загудел:
— Ничего это… Не страшно. Пущай она нас перевоспитывает, стремится. Наживать деньги никому не запрещено.
— У нас с тобой дело пойдет, — пообещал Капитон, — познакомлю я тебя тут кое с кем…
Володе еще хотелось послушать, очень уж смешно сказал дядя про тараканов, но мама крикнула из окна, что пора спать.
Пробегая через темный коридор, он задержался около кухонной двери. Александра Яновна сидела у стола и, прикрывая белыми веками глаза, спрашивала:
— Хозяйка-то, сестрица моя, видать, гордая… Посидела с нами мало, про все дела повыспросила и все вроде с осуждением.
Поправляя смятый бант на плече, Васькина мачеха лениво жевала тусклые слова:
— Да нет, она ничего. Дома-то немного бывает, все на работе.
— В одиночестве живет?
— Да кто ее знает. На дом не водит.
— Смотрите-ка, — осуждающе вздыхает Александра Яновна. — Женщина молодая, из себя красивая, получает, наверное, подходяще. А замуж не вышла. Вот она, гордость-то. Я — дура баба, вовсе неученая, за всю жизнь ни одной задачки не решила, а у меня муж!
Она вздохнула и снова зашелестела:
— Мы, значит, с тобой завтра и сходим. Давно я в церкву не хаживала. В нашей местности все храмы позакрыты-позабиты. Очень народ печалуется. А многие в баптисты ушли, и в хлысты, в раскол.
Васькина мачеха пухлой рукой все еще расправляла бант на плече и скучно говорила:
— Надо бы сходить, да все недосуг. Да и дорога туда ох далека, и все в гору, все в гору…
Из двери выскочила Тая.
— Ты зачем подслушиваешь?
Дернув ее за косичку, Володя убежал домой.
Мама стояла посреди комнаты в своем нарядном платье. Прижав обе ладони к щекам, она словно поддерживала свое лицо, боясь как бы оно не упало.
Усталым и каким-то пустым голосом спросила:
— Ноги вымыл? Ну тогда ложись.
Володя понял, что маме не по себе, и подумал, что, наверно, она недовольна его поведением. Причин для этого всегда достаточно. А кроме того, он так и не попросил прощенья у Капитона.
И пока он раздевался и укладывался в постель, она все стояла и держала в ладонях свое лицо, и красиво причесанные волосы блестели, как золотые.
Глядя на нее, Володя подумал, что маме, наверное, не понравился дядя и его жена. За весь вечер, что она пробыла у них в гостях, она ни разу не засмеялась. Должно быть, нехорошие они люди. Маму они все-таки побаиваются. Хорошо это или плохо? Наверное, нехорошо. Ведь она мечтала подружиться с ними.