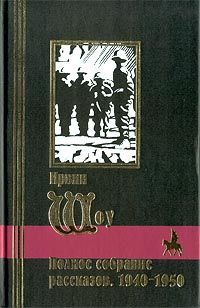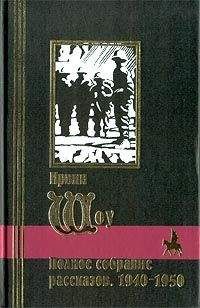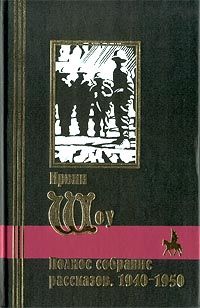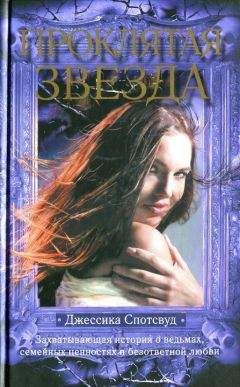— Да, сэр.
«Какой все же замечательный человек этот Сидорф, — подумал он. — Как хитер, насколько верна его интуиция! Нет, он вполне достоин доверия». Гарбрехт встал.
— Это все, сэр?
— Все. — Добелмейер протянул ему конверт. — Вот ваши деньги. За эту неделю и за те две, когда я задержал вам выплату, приступив к исполнению своих служебных обязанностей.
— Большое спасибо, сэр.
— Нечего меня благодарить! — оборвал его майор. — Эти деньги вы заработали. Встретимся на следующей неделе.
— На следующей неделе, сэр. — Отдав честь, Гарбрехт вышел.
У подъезда на улице стояли двое военных полицейских со скучными лицами. Их каски, пояса, пряжки, нагрудные знаки поблескивали на зимнем солнце в безоблачном синем небе. Гарбрехт, улыбнувшись, дружески кивнул им. Его забавляла мысль (правда, пока преждевременно) о том, как он понесет при себе с самым надменным видом сложнейшие детали первой бомбы в Берлине мимо них, под самым их носом.
Скорым шагом Гарбрехт шел вниз по улице, стараясь дышать поглубже, постоянно нащупывая небольшой, выпирающий из-под пальто бугор — конверт с деньгами. Он чувствовал, что так долго сковывавшее его оцепенение пропадает, он освобождается от него и ему на смену не приходит никакой боли — вообще никакой боли.
Обнаженная в зеленых тонах
В молодости Сергей Баранов, художник, предпочитавший рисовать большие натюрморты с румяными яблоками, зелеными грушами и очень оранжевыми апельсинами, вступил в Красную Армию, принял участие в нескольких боях с белыми — нанеся им, естественно, минимальный урон — в районе Киева.
Крепкий, здоровый, мечтательный по характеру, доброжелательный юноша, не умевший никому ни в чем отказать; когда его друзья встали на сторону революции, он пошел за компанию вместе с ними; служил преданно, верой и правдой, никогда не падал духом, с удовольствием жевал твердый, как камень, солдатский хлеб, спал на соломе вместе со всеми, нажимал на курок старенького ружья, если ему приказывали это делать командиры, храбро шел в бой вместе со всеми и с таким же успехом драпал вместе со всеми, если нужно было спасать свою шкуру.
Когда революция завершилась, он демобилизовался, получив скромную награду за бой, в котором участия не принимал, поселился в Москве и снова стал писать розовощекие яблоки, зеленые груши и очень оранжевые апельсины. Все его друзья восторженно отзывались о революции, были убеждены, что произошло нечто просто великолепное, и он, Сергей, чтобы не выделяться из их числа, любезно, для вида, соглашался с ними, разделял их юношеский задор.
Дело в том, что его на самом деле интересовало только одно — писать яркими красками натюрморты, фрукты и овощи. Когда в его студии или в кафе, где он частенько бывал, начинались оживленные дискуссии о Ленине, Троцком, нэпе, он лишь искренне, заразительно смеялся, отшучиваясь:
— Кто его знает? Пусть решают философы.
К нему, награжденному герою революции и художнику с головы до ног, все относились очень хорошо. Ему выделили отличную мастерскую под стеклянной крышей и выписали паек рабочего, занятого тяжелым трудом. Все с теплотой отзывались о его картинах, ибо он знал секрет, как изображать на полотне овощи и фрукты настолько вкусно, что они сами просились в рот. Продавал он их всегда быстро, без задержки, и его работы можно было увидеть в домах и кабинетах очень многих важных шишек нового режима — это аппетитное, яркое пиршество красок, оживлявшее мрачные, бесцветные стены учреждений.
В 1923 году, когда он встретил и завоевал пухленькую, красивую молодую даму из Советской Армении, в его живописи наступил новый этап: он начал рисовать «ню». Так как при этом он сохранил прежнюю технику, то, несмотря на резкую смену сюжета, ему постоянно сопутствовал успех и он шел вперед семимильными шагами.
Теперь его картины, такие же вкусные, притягательные, сочетали в себе поразительные черты сада и гарема, и все гонялись за копиями его работ, с изображением обнаженных, здоровых, полных женщин, с розоватой кожей; таких картин не чурались даже самые высокопоставленные лица в государстве.
Несомненно, он продолжал бы в таком духе и по сей день, удачно создавая целые галереи полотен, изображающих крепко сбитых, весьма легко одетых, аппетитных девушек, вместе с грудами невиданно громадных красноватых гроздей винограда и желтых бананов, пожиная один успех за другим, постоянно осыпаемый все новыми почестями, если бы вдруг, невзначай, на каком-то литературном вечере не встретил женщину, ставшую в конце концов его женой.
Анна Кронская была одна из тех поразительно энергичных женщин, с тонкими чертами лица, которых революция, освободив от ярма постоянного ухода за детьми и рабского труда на кухне, обрушила на мир мужчин. Угловатая, хищная, умная, с хорошо подвешенным языком, измученная несварением желудка, демонстрирующая глубочайшее презрение к представителям мужского пола, такая женщина, как она, могла делать все — заведовать магазином или готовить боевые сводки. Как сказал один из ее друзей, пытаясь провести различие между Анной и ее более мягкими современницами, «по утрам перед выходом из дома Анна не красит губы и не пудрит лицо, — она его скоблит, словно точильным камнем».
В Москве в то время, когда они встретились с Сергеем, ее неудержимо тянуло на ниву общественного воспитания. Под ее присмотром уже находились — в количестве двадцати трех — дневные ясли для работающих родителей, с целым штатом робких, запуганных мужчин и женщин, и она, несомненно, уже оставила свой заметный след на новом, подрастающем поколении молодого государства. Дети, которых она воспитывала, считались самыми чистоплотными и самыми «скороспелыми» во всем Советском Союзе, и это происходило до тех пор, покуда в 1938 году в ходе обычной проверки по выявлению нервных заболеваний не выяснилось, что бывшие воспитанники ее безупречных во всех отношениях яслей опережали все группы населения страны по числу нервных расстройств в соотношении три к одному.
В незавершенном исследовании, проведенном одним весьма ученым полковником артиллерии во время месяца затишья на Южном фронте в 1944 году, содержались такие данные: благодаря стараниям Анны Кронской в отношении выросшего под ее опекой поколения Красная Армия лишилась больше живой силы, чем полностью укомплектованная бронетанковая бригада Девятой немецкой армии.
Тем не менее этот отчет был воспринят с долей скептицизма со стороны начальства дотошного полковника, ибо, как раскопало ОГПУ в его досье, этот исследователь был любовником мисс Кронской в период между третьим и седьмым августа 1922 года и сам обратился со слезной просьбой перевести его в Архангельск восьмого числа того же месяца.
Так вот именно эта дама, в компании одного поэта-героя и стареющего летчика-испытателя, положила глаз на крепко сбитого, пышущего здоровьем Баранова, когда он входил в комнату через двери, и она всего за несколько секунд приняла твердое как сталь решение, призванное в корне изменить всю прежнюю жизнь художника. Придавая еще больше блеска своим черным, как карборунд, глазам, она прошла к нему через всю комнату, без всякой робости сама представилась ему, не обращая абсолютно никакого внимания на пришедшую вместе с ним прекрасную девушку из Советской Армении. Она активно начала любовный процесс, и три месяца спустя он завершился узами брака.
Что так сильно, неудержимо привлекало ее в Баранове? На этот вопрос не могли дать ответа даже ее самые близкие друзья. Может, она увидела в этом художнике простоту, мягкость, доброжелательность вкупе с крепким здоровьем, отличным пищеварением и нервную систему без всяких комплексов, — все это незаменимые качества для мужа деловой дамы, ответственного лица, которая каждый день возвращается домой поздно вечером, измочаленная и уставшая после тысячи дневных беспокойств и забот. Какими бы ни были истинные причины, Анна всецело завладела Сергеем, отрезав ему все пути отхода.
У него произошла слезная, душераздирающая сцена прощания с любимой советской армянкой, он в последний раз нарисовал ее обнаженной, розоватой, как свои любимые фрукты, и даже помог перенести кое-какие вещички этой несчастной женщины в новую комнату, которую сумела найти для нее Анна в районе трущоб, расположенном в трех четвертях часа пешего хода до центра города. После этого Анна въехала к мужу, привезя с собой новое одеяло, три набитых до отказа ящика с политическими памфлетами и отчетами и большую настольную лампу с подставкой, изогнутой, как шея у гусыни.
Брак с самого начала казался абсолютно счастливым, и в самом Баранове произошла лишь одна заметная перемена, кроме постоянно растущей тенденции постоянно хранить полное молчание в шумной компании: он больше не рисовал «ню». Ни одной картины, ни одного наброска, ни одной акварельки от талии и выше оголенной части женского тела не выходило больше из его мастерской.