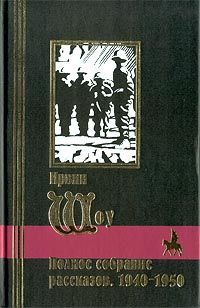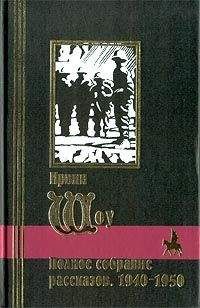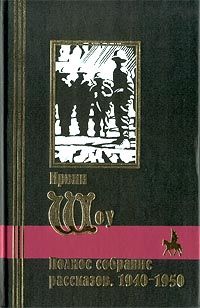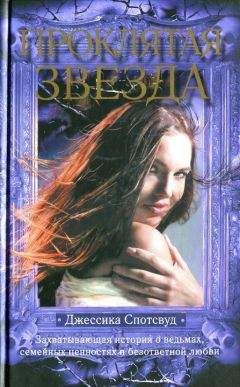Теперь он, целиком посвятив себя растительному миру, миру овощей и фруктов, как будто разработал новый подход, с новым пониманием, к изображению на полотне яблока, апельсина или груши. Такие же вкусные, точно так, как и прежде, просящиеся в рот изображались им овощи и фрукты, но сами картины изменились, словно кто-то подменил их текстуру: в его работах появилось преследующее вас, настраивающее на меланхоличный лад благоухание, словно выбранный им для сюжета плод только что сорван с печальной осенней ветки — последний от щедрот уходящего года, из последнего сбора с деревьев и виноградников, — на этих медленно умирающих виноградных листьях и ветках фруктовых деревьев уже гуляли, постанывая, злые зимние ветры.
Новое направление в творчестве Баранова приветствовали с уважительными, сдержанными похвалами как критики, так в равной мере и широкая публика, и теперь копии его нового периода висели во многих музеях и общественных местах. Успех нисколько его не изменил. Он только стал куда более молчалив, рисовал и писал уверенной рукой, много экспериментировал со свеклой и тыквами, в еще более темно-красных и желтых тонах; повсюду появлялся только в сопровождении своей желтовато-бледной, болезненной, но по-прежнему блестящей жены, которую слушал с образцовым вниманием каждый вечер, а она, воспользовавшись таким обстоятельством, все активнее монополизировала все беседы о литературе, искусстве, политике, образовании и сфере промышленности.
Однажды, правда, он, по просьбе жены, отправился в одни из детских яслей, где приступил к обычной работе: хотел нарисовать там группу детишек. Поработал приблизительно с час, затем, отложив кисти в сторону, разорвал холст и бросил в печку. Потом многие слышали, как он долго рыдал, закрывшись в мужском туалете, и никак не мог взять себя в руки.
В эту историю никто, по сути дела, не верил, ее передавала одна молодая учительница, которая поссорилась с Анной Кронской и была по ее требованию уволена как ненадежный элемент. Как бы там ни было, правда это или ложь, но Баранов вернулся в мастерскую, где продолжил писать натюрморты с буряками и тыквами. Приблизительно в это время он пристрастился рисовать по ночам при лампе с гусиной шеей, которую привезла в дом Анна в качестве приданого.
Теперь у них, в силу важности каждого по отдельности, появилась собственная отдельная квартира, расположенная всего в миле от его студии, и крепко сбитую, но теперь слегка сгорбленную фигуру художника, тяжело бредущего по занесенным снегом пустынным улицам, постоянно видели на этом отрезке — от мастерской до его дома. Он стал ужасно таинственным, постоянно закрывал двери на ключ и, когда друзья спрашивали его, над чем он сейчас работает, лишь загадочно, вежливо улыбался и тут же переводил разговор на другую тему.
Анна, само собой разумеется, никогда не интересовалась его работой, так как была постоянно занята, всегда в хлопотах, и только на открытии его персональной выставки, этом значительном событии, в котором приняла участие интеллектуальная элита правительства и представители изящных искусств, впервые увидела картину, над которой ее муж трудился последние несколько месяцев.
Это была «ню». Но не такая, какие Баранов рисовал прежде. На громадном, отпугивающем полотне — ни одного розового пятнышка. Преобладающий цвет зеленый, тот, что угрожающе окрашивает все пространство высокого неба перед началом мощных циклонов и ураганов, — желтовато-зеленый, колдовской, угнетающе действующий на сетчатку глаза цвет.
Сама фигура женщины, с висячими грудями и гладкими волосами, с морщинистой брюшиной и не полными, но все равно дразнящими бедрами, тоже выполнена в различных зеленых тонах, а пронзительные, какие-то демонические глаза под строгими бровями отличались другим оттенком этого доминирующего на картине цвете. Рот — наиболее страшная деталь картины — был нарисован густой черной краской, что создавало странное впечатление громко выкрикиваемой, с завываниями, речи, как будто художник поймал свою модель в момент изрыгаемого ею маниакального потока ораторского красноречия. Этот рот, казалось, занимал все полотно, по сути дела все пространство в зале, и из него изливался непрерываемый, патологический, сияющий риторический поток; как было сразу замечено, зрители старались, испытывая какую-то необъяснимую неловкость, не смотреть, если удавалось, на эту часть картины. Задний фон тоже сильно отличался от обычных, тщательно, с богатым воображением выписанных материалов; теперь там была какая-то пена, обломки какого-то крушения, зазубренные каменные руины храмов и домов под зеленым и черным, как уголь, небом. Единственное связующее звено с прошлым творчеством Баранова на полотне — вишневое дерево, справа на переднем плане. Но и оно какое-то чахлое, вырванное из земли с корнем; зеленого цвете гриб пожирал, присосавшись, его ветви; его, по-видимому, страдающий ствол обвивала своими смертоносными крепкими объятиями толстая, похожая на тело змеи виноградная лоза, а старательно прописанные зеленые черви ползали между незрелыми фруктами и жевали их. По всеобщему мнению, эта картина производила странный эффект — все в ней смешалось: безумие, гений, бьющая через край энергия, грядущая катастрофа, печаль, отчаяние.
Когда в зал вошла Анна Кронская, зрители стояли группами, глядя с жутким любованием на новую картину.
— Великое полотно! — услыхала она слова Суварнина, критика по искусству из «Серпа».
— Невероятно! — прошептал художник Левинов, когда она проходила мимо.
Сам Баранов стоял в углу, застенчиво принимая поздравления от охваченных благоговейным страхом друзей, — он был очень взволнован. Анна, не веря собственным глазам, уставилас ь на картину мужа, — он сам, с привычным розоватым цветом лица, с приятной, как всегда, улыбкой на губах, со своим покорным выражением, ни на йоту не отличался от ее прежнего мужа, которого она знала все последние годы. Хотела было подойти к нему, поздравить, хотя картина показалась ей абсолютно оторванной от действительности, но ее на ходу перехватили двое руководителей тракторного завода в Ростове, и она так увлеклась своей лекцией о тракторостроении, что совершенно позабыла и о выставке, и о картине Баранова, вспомнив обо всем лишь поздно вечером.
Время от времени кое-кто из приглашенных бросал долгие, любопытные взгляды на Анну, особенно когда она оказывалась перед шедевром мужа. И хотя Анна чувствовала настороженные взгляды и от нее не могло ускользнуть тревожное, неуловимое выражение устремленных на нее глаз, она старалась не замечать этого, не поддаваться своим чувствам, так как давно привыкла к подобным различным по интенсивности и доброжелательности взглядам со стороны своих подчиненных, когда она появлялась в палатах и кабинетах вверенных ей яслей.
Истинной причины поспешных, первых пробных оценок картины посетителями галереи она так и не открыла для себя, и никто во всем Советском Союзе не осмелился бы навести ее на такую мысль. Дикое, кошмарное лицо, увенчивающее ужасное тело обнаженной в зеленых и черных тонах, обладало фамильным сходством с Анной Кронской, и никакая намеренная стилизация художника не могла этого скрыть. Это были абсолютные близнецы — нарисованная и реально существующая женщины, и их обеих связывали какие-то отвратительные нити, которые не могли избежать ничьего внимания.
Второй человек во всей Москве, кроме нее, который не знал, что художник нарисовал портрет своей жены, — тот, кто покорно возвращался домой вместе с ней каждый вечер. Ничего не зная, чувствуя, как счастлив новой свалившейся на него славой, Сергей Баранов повел жену в тот вечер на балет в честь своего успеха, а позже заказал в кафе три бутылки шампанского, большую часть которого вылакали двое «трактористов» из Ростова.
Следующая после открытия выставки неделя ознаменовала собой наивысшую точку в жизни Баранова, как и тогда, на первом этапе его творчества. Его постоянно приглашали на празднества, там его все шумно чествовали; прохожие указывали на него пальцами, где бы он ни появлялся; его приветствовала пресса, призывала заняться настенной росписью, чтобы своим творчеством, своими кистями и красками покрыть квадратные акры стен, — он просто плавал в ярком, бурном потоке похвал. Критик Суварнин, который едва отвечал на его приветствия прежде, снизошел до того, что сам пришел к нему в мастерскую, чтобы взять у него интервью, и, что самое главное, вопреки всем прецедентам явился к нему абсолютно трезвым.
— Скажи мне, — говорил он Баранову, косясь на него своими белесыми, холодными глазами, которые пробуравили насквозь не одно полотно, — скажи мне, пожалуйста: как это художник, рисовавший до этого лишь фрукты, вдруг создает такую потрясающую картину?
— Ну, такое иногда происходит вот таким образом, — начал объяснять Баранов, к которому за последнюю неделю вернулась прежняя разговорчивость и экспансивность. — Как ты наверняка заметил — если ты видел мои последние работы, — они становились все более печальными, дышащими меланхолией.