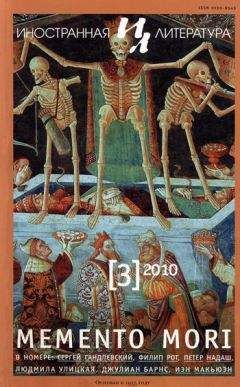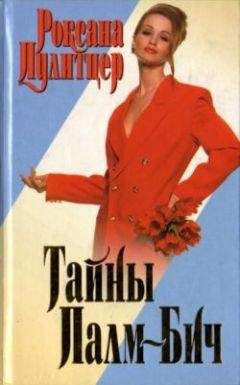Ко времени финалов мне пришлось вернуться в Лондон, и я каждый вечер звонил ему — узнать подробности. Мне нравились его темпераментные репортажи.
— «Метс» выиграли, — говорил он таким тоном, словно это была и его победа. — В двенадцатом иннинге. Вот игра так игра. Гуден против Райена. Строберри забил хоумран. И тогда они сравняли счет. Да уж, вот игра так игра.
— Угу. Уймись, — говорил я. — Когда Строберри забил хоумран?
— В шестом иннинге. А выиграли они в двенадцатом. Бэкмен так саданул по мячу, что третий бейсмен не смог его получить. Куда там. Бэкмен успел перебежать. И тут питчер «Хьюстон астронотс» подал так, что мяч достался первому бейсмену, и Бэкмен успел на вторую базу. А потом Картер вышел. За двадцать два или двадцать три у него О. И пробил по центру, Бэкмен заработал очко, на том и кончилось. «Метс» выиграли два: один.
— Вот это да. А когда кончился матч? — спросил я.
— Примерно полчаса назад. А ты слышал про нашего друга Визеля?
— Да, мне уже сказали.
Писатель Эли Визель — я его когда-то знал, хотя и не коротко, — получил в тот день Нобелевскую премию мира.
— Сто двадцать тысяч плюс почет, — сказал отец. — В этом году третий еврей получает Нобелевскую премию.
— Вот как? А кто остальные два?
— Наш Коэн и та еврейская девица из Италии, Леви, как ее там[32].
— Что и говорить, — сказал я, — великий день для евреев и для «Метс». У «Метс» — два, у Хьюстона — один, у евреев — три, у гоев — фиг. А теперь они поедут в Хьюстон, так? Матч завтра?
— Вот-вот. Им нужно выиграть всего один матч, — сказал он.
— Что ж, — сказал я, — проиграть два матча подряд немудрено, случались вещи и подиковиннее.
— Нет, — сказал он. — Два раза они не проиграют, они классные ребята. Как они сегодня играли, как играли!
— Если дойдет до седьмого, им опять придется иметь дело со Скоттом, — сказал я.
— Фил, он не потянет. Во-первых, ему подавать второй раз, а он отдохнул всего три дня. Или четыре? Один день не играли из-за дождя, потом сегодня, потом среда — вот и выходит, что ему отдыхать всего три дня.
— Ладно, — сказал я, — ты говоришь, он не потянет, верю тебе. Поговорим завтра. И поздравляю с Визелем. Вам, евреям, есть чем гордиться.
— Ой, кончал бы ты хохмить, а? — сказал он, но, кладя трубку на рычаг, смеялся.
Смеялся он и когда на следующий вечер я позвонил ему.
— Ну, что там у тебя? — спросил я.
— Они все еще играют. Хочешь верь, хочешь нет. Тринадцатый иннинг.
— Вот это да!
— Они были в проигрыше три: один в девятом иннинге, а сейчас идет тринадцатый иннинг, и они сравняли счет. Я не отхожу от телевизора. Даже не поел.
— Одна игра напряженнее другой, — сказал я.
— Нет, это блеск, просто блеск, — сказал он.
— Что касается меня, я ложусь спать, — сказал я. — У нас половина двенадцатого. Я думал, они к этому времени закончат. Начался-то матч в три часа.
— Двое выбыли в начале триннадцатого иннинга.
— Кто питчер «Метс»?
— Макдауэлл подает у метсов, а у хьюстонцев — Андерсон.
— Ну-ну, я ложусь спать, — сказал я.
Тем не менее в полночь — уже почистив зубы и улегшись в кровать — я встал и спустился в кухню: позвонить отцу. И звонил не только из-за «Метс».
— Ну что там? — спросил я.
— Это ты, Фил? Господи, нет, это просто невероятно.
— Они все еще играют?
— «Метс» вышли вперед четыре: три сразу после твоего звонка. Строберри добежал, когда бил Дикстра. А потом этот парень пробил хоумран хьюстонской в конце четырнадцатого иннинга. А сейчас начало пятнадцатого. Счет четыре: четыре, и питчер — какой-то жирняга мексиканец.
— А-а-а, тот красавчик — глаз не отвести.
— А у «Метс» тот совсем молоденький шортстоп, он вечно промазывает… Нет, нет… дал свечу. И какую. Хоть не вылетел. Ой, если я тебе буду пересказывать подачу за подачей, я тебя разорю.
Однако от такого вот — подача за подачей — пересказа я получал удовольствие большее, чем если бы сидел на трибуне.
— Давай-давай, Герман. Я — человек не бедный. Подачу за подачей. Что там сейчас?
— Теперь должны выходить Эрнандес и Картер. Эта игра — это что-то особенное, но счет был три: ноль в девятом иннинге. «Метс» забили всего два мяча. И знаешь что? С минуты на минуту начнется матч «Ред сокс». Матч должен начаться в восемь, а сейчас уже семь. Ух ты, Кейт вылетел.
— Вылетел? Что ж, они так и будут играть всю ночь?
Отец расхохотался.
— Похоже на то.
— Ладно. Позвоню тебе завтра — узнаю, чем кончится. Будь здоров.
— Не беспокойся, они выиграют. Иди-ка спать, — сказал он.
Назавтра, в семь утра — отец всегда вставал в семь — и в полдень по лондонскому времени отец позвонил: сообщить результат.
— Фил?
— Да.
— Это папа. Ты в жизни ничего подобного не видал. «Метс» выиграли в шестнадцатом иннинге.
— Здорово. Я собирался позвонить тебе чуть позже.
— Я только встал. Знал — тебе не терпится узнать как и что. В девятом иннинге у них было на три очка меньше. Рассказывал я тебе или не рассказывал про девятый иннинг?
— Какая разница. Расскажи все по порядку.
— Так вот. У них в девятом иннинге было три хоумрана. И они добились счета четыре: три. И тут этот их питчер…
— Хьюстонский Керфилд?
— Да нет. Питчер за «Метс». Все забываю, как его там.
— Макдауэлл.
— Да нет, другой.
— Ороско.
— Угу. Мороско. «Метс» выходят вперед со счетом четыре: три. И тогда Хьюстон делает хоумран, и теперь счет четыре: четыре. В шестнадцатом иннинге «Метс» забивает три. Они впереди — семь: четыре. Хьюстон поднапрягся. Семь: шесть. Потом Кевин Басс три раза мажет, и они выигрывают семь: шесть.
— Значит, они выиграли серию.
— Да, выиграли.
— И как «Метс» удалось забить три хоумрана?
— А все Дикстра. Этот парень — это что-то. После того как Мороско выдал три хоумрана в шестнадцатом иннинге, Эрнандес вышел на горку — я только что в газете прочел, — и знаешь, что он сказал? Еще один такой запулишь — убью.
— Ну это вряд ли.
— А я бы его убил, — рассмеялся отец, и голос у него был такой бодрый, точно весной он только прикидывался, что болен, и намерен прожить еще тысячу лет.
Передышка длилась около суток. Затем опухоль мозга снова дала о себе знать.
В следующие полтора месяца ничего не случалось и не предпринималось — ни один из нас не представлял себе, что именно следует предпринять. Так как первый нейрохирург сказал, что облучение на опухоль не подействует, а второй, что шансы невелики, нам стало казаться, что вряд ли стоит брать у отца биопсию, в особенности учитывая — а я навел справки, — что процедура эта крайне болезненная и небезопасная: ведь иглу вводят вслепую. И если биопсия приведет нас к тому, чего мы и так опасались, то есть к операции, после которой не исключено, что отцу станет не лучше, а хуже, — чего ради ее делать?
Спустя несколько дней после консультации доктор Бенджамин на месяц с лишним уехал в Европу читать лекции, возвратиться он предполагал только 20 июня, и обсудить с ним свои сомнения до этого я никоим образом не мог, что еще больше усложнило наше положение. Бенджамин назвал врача, которому готов доверить биопсию, и, хотя отец еще раз съездил в Нью-Йорк к этому врачу — в тот раз его сопровождал брат: он прилетел на неделю из Чикаго побыть с отцом и ненадолго сменить меня, — все мы чувствовали, что не решимся на биопсию до возвращения доктора Бенджамина, если вообще решимся, так как накопилось слишком много вопросов, ответа на которые мы не знаем.
Отец был не способен принять решение самостоятельно. С обоими нейрохирургами он держался мужественно, но разрывался между их разноречивыми мнениями — и потерял голову. Нес какую-то бессмыслицу, потом надолго замолкал или ни с того ни с сего в таком бешенстве набрасывался на Лил, что потом сам себе поражался и кротко просил у нее прощения. Просить прощения у Лил — оно было бы и неплохо, если бы это говорило не так о раскаянии, как об упадке духа. Он твердил мне, брату, всем, что ему не нужна ни биопсия, ни операция никаким доступом — ни через затылок, ни через нёбо, а хочет он того, чего хотел с самого начала: видеть, что ест, читать газету и, как он выражался, «держаться на плаву». И чего бы им не удалить катаракту на здоровом глазу и не вернуть ему зрение? Однажды, придя к нему пообедать, я прочитал черновик его письма офтальмологу — он забыл его на столе: «Дорогой доктор Крон, я хочу снова видеть. Хочу, чтобы мой глаз привели в порядок. Вот, чего я хочу. Герман Рот».
Конечно же, пока время шло и отец, сникший, потерявшийся, болтался между небом и землей, меня не оставляла мысль: ведь доктор Мейерсон — отнюдь, как я понимал, не дурак, — предупредил нас: если ничего не предпринять, ухудшение наступит в «в сравнительно недолгом времени». Мейерсон сказал, что собирается удалить опухоль через затылок, и операция займет восемь-десять часов, Бенджамин сказал, что удалит опухоль через нёбо — оттуда, куда вводили иглу для биопсии, — и извлекать ее будут часов тринадцать-четырнадцать, отец же говорил, что его страшат оба варианта, и он и помыслить не может ни об одном из них.