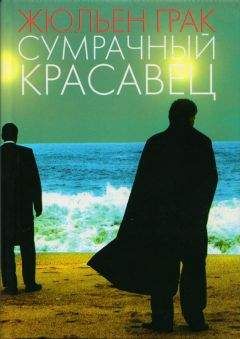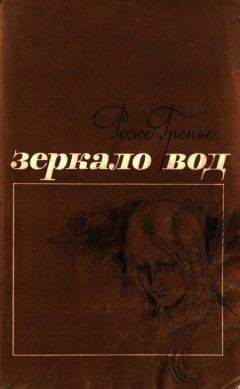Сегодня ночью долго стоял у окна, смотрел, как над морем восходит загадочная луна. Захваченная врасплох во время любовного свидания, на широкой светящейся лестнице, испещренная черными родинками, молчаливая, она казалась бесстыдной, непонятной и полной предзнаменований, точно женское недомогание.
Я становлюсь нервным, как ребенок.
11 августа
Всем тем, кто, как я, знает, что невинность и виновность даны нам от рождения.
То, что я пишу, по сути имеет прямое отношение к позавчерашнему разговору.
Уже давно я осознал тот поразительный факт, что страсть — не навязчивая идея, не суженное пространство, на котором отныне должны умещаться все помыслы и заботы, не отвод жизненных потоков в новое, отныне единственное русло, которое человек наметил для себя сам, — нет, это неистовое, брызжущее кипение жизни: так вскипает вещество под жгучей каплей кислоты. Поэтому на мой взгляд, да и на взгляд каждого, кто всмотрится повнимательнее, страсть может достигнуть наивысшей мощи только внутри некоей группы людей. В иных условиях она не возвысится до экстаза, до исступления. Я не представляю себе страсть на пустынном острове. И наоборот: там, где имеется театр, непременно отыщется и страсть; если бы ее не было, ее бы следовало придумать.
Страсть передается, как зараза. Страсть — дитя толпы или, по крайней мере, группы.
Я всегда представлял ее себе, как незримое облако, которое окутывает человека, вступившего в магический круг, и пробуждает в нем жгучий жар. Впрочем, так считает и широкая публика, хоть и не отдает себе в этом отчета. Разве в романах для прислуги не говорится о бурях, смерчах, ураганах страсти? Как выразительно сказано! Ведь смерч — сила, которая превращает соломинку или, если хотите, мыслящий тростник в убийственный снаряд. Этакий черный столб всасывает все вокруг и вращается с такой чудовищной скоростью, что кажется неподвижным.
Он живет и действует в искусственном мирке, создаваемом им самим — его голосом, его речами и походкой, — мирке правдоподобия, приличия, благопристойности. Даже самые скверные его выходки не могут ничего изменить: если человек сидит в кресле с такой царственной непринужденностью, он всем внушает доверие; а слова, слетающие с таких любезных, таких румяных, таких бестрепетных уст, никому не покажутся бредом.
Для меня самый волнующий период в жизни Христа — это краткий период от Воскресения до Вознесения, когда Его явления людям были такими недолгими, зыбкими, сумеречными и со скорбью воспринимались как последние, как прощальный отблеск заходящего светила — в то же время удивляли, казались небывалым возвратом надежды, запоздалой прихотью, небрежностью божества. Это Он — и не Он: лицо возникает перед тобой — и через мгновение гаснет либо сияет тебе из-под чьих-то других черт. И начинается лихорадочная погоня за привидением, которую прерывает идиллическая пауза — словно вечерняя беседа у колодца: окутанный сумраком пришелец просит у служанки на постоялом дворе, чтобы принесла ему поесть. Мирный ужин в тени виноградной беседки с паломниками, идущими в Эммаус, — медлительная рука, преломляющая хлеб, вечер так ясен. Все такое привычное — ну да, мы видели Его на дороге, правда видели, и совсем недалеко отсюда. И вдруг, как молния, — слова, взорвавшие этот вековечный сумрак, покой сжатых полей, где вздымается невидимая десница, подступают неслышные шаги, и древний ужас объемлет сердце: "Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру". И другие слова, самые прекрасные, какие когда-либо слетали с уст человеческих: "Не прикасайся ко мне…" Целый край взбудоражен великой тайной, целый край — в погоне за метеором. По ночам ходят дозором легионеры, добровольцы обследуют поля вокруг деревень, с наступлением вечера матери, стоя на пороге, скликают детей. Колодцы по ночам озаряются светом, люди видят его и боятся потревожить, люди прикрывают зеркала — под сводом дубовой аллеи вдруг занимается день, раздаются шаги, от которых земля дрожит и на сорок стадий вокруг покрывается цветами. И бунт, слепая ненависть твердолобых, надежно охраняемых, окопавшихся, страсть к беспощадной охоте на человека, просыпающаяся в богатых домах. Но маленькое братство, пьяное от жажды, днем и ночью носится по полям и лесам, будто стая менад; пьяные от жажды, которую ничто не может утолить, они в раздумье останавливаются на перепутье, рыщут по всем дорогам и тропам, во всех направлениях, ибо ошеломляющая доступность, дразнящая неприкрытость, поразительная повторяемость чуда может значить только одно: скоро Он покинет нас навсегда.
14 августа
Еще один странный эпизод.
В последние дни жара стала невыносимой, и вот после обеда, когда отель опустел, мы с Жаком устроились в курительной и, чтобы убить время, сыграли несколько шахматных партий.
Жак их все проиграл — и не мог скрыть раздражения. Я замечаю, что он, как и я, изо дня в день становится все более нервным, импульсивным. Сегодня после обеда Аллан и Кристель опять куда-то исчезли вдвоем, и Жак, украдкой наблюдавший за ними, помрачнел.
Похоже, ему передались мои мысли и, думаю, из бравады, желая доказать мне (он ведь еще так молод), что его с Алланом связывает настоящая мужская дружба, которой женщина не в силах помешать, он вдруг предложил мне взглянуть на шахматы из слоновой кости, подлинное произведение искусства, — Аллан, кажется, привез их из Индии.
— Но Аллана сейчас нет в отеле.
— Ну и что? Мы просто зайдем и посмотрим. Я с ним в таких отношениях, что он не станет обижаться.
В эти праздные послеполуденные часы коридоры отеля были безлюдны. На красном с разводами ковре, покрывавшем пол на этаже, где жил Аллан, солнце, уже клонившееся к горизонту, нарисовало пышные цветы, которые своим сонным великолепием напоминали витражную розетку, наши шаги, вначале гулко отдававшиеся на лестнице, здесь зазвучали приглушенно: это придавало нашей затее какой-то подозрительный оттенок. Мне смутно вспомнился ночной рассказ Аллана в Роскере и мой недавний сон. Особенно удивлял меня этот красный ковер.
Когда мы оказались перед этой дверью, мне стало настолько не по себе, что я едва не схватил Жака за рукав, чтобы удержать его. При той поверхностной дружбе, которая, как я думаю, связывает его с Алланом на самом деле, между друзьями дозволено все: они просто не в состоянии оскорбить один другого. Жак вправе привести сюда кого угодно. Но как объяснить Жаку, что на меня эта индульгенция не распространяется? Если Аллан вдруг вернется и застанет нас у себя в комнате, Жака он просто похлопает по плечу, а я сгорю со стыда.
Меня всегда интересовали покинутые дома — каменная оболочка, раковина, искривленная привычкой, огрубленная повседневной жизнью, — но еще больше притягивали ненадолго опустевшие комнаты, которые еще хранят тепло хозяина, как только что сброшенный плащ, и которым разбросанные бумаги, раскиданное белье, атмосфера тревожного ожидания, незавершенного дела придают неповторимое своеобразие, даже более яркое, чем то, каким отмечено лицо человека. Я верю, что темные комнаты действительно могут о многом рассказать.
Однажды я сочинил притчу. Дамокл пирует с друзьями: они пьют, смеются, их развлекают танцовщицы и флейтисты. И вот пир окончен, все выходят, разгоряченные вином; идущий последним приоткрывает дверь в опустевшую залу — он забыл там свой венок — и вдруг замирает, пригвожденный к месту: он заметил меч, висящий над опустевшим троном.
Солнечные блики на узорчатом плюше, жирные лужицы желтого света на драпировках, на старомодных бархатных креслах, вынесенных в коридор (в одной из комнат меняли обстановку), сонная тишина — все это вдруг напомнило мне старинный особняк на заросшей деревьями улочке провинциального города, где одряхлевшая хозяйка в накрахмаленном чепце, таком же воротнике и манжетах тихо, будто привидение, скользит из комнаты в комнату и слушает, как за окнами шелестят ветви, чьи нежные тени ложатся на стены ажурными покрывалами, и как скрипит мебель в послеполуденный зной.
После полутьмы коридора комната Аллана чуть не ослепила меня океаном света. Резкий сквозняк всколыхнул и растрепал занавеси. Окно напротив двери было широко распахнуто, и перед нами во всем блеске предстала залитая солнцем морская гладь, откуда-то донеслось шуршанье, хлопанье, свист ветра, — все это наводило на мысль о побеге, о веревочной лестнице и складывалось в классический образ опустевшей клетки, образ, чья скрытая ирония пробуждает в душе дерзновенные мечты о левитации.
Другое окно, справа от двери, выходило в парк. Великолепная лестница зыблющихся верхушек деревьев — желто-зеленых, серо-зеленых, бронзово-зеленых — уступами поднималась к остроконечному сквозному шпилю лиственницы, одиноко красовавшемуся на фоне неба.