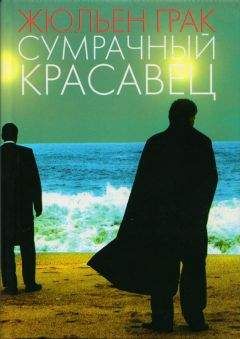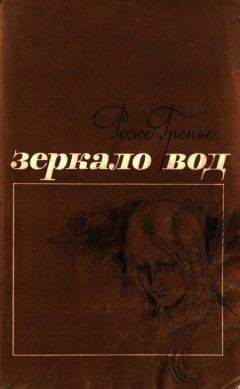Мне вспоминается одна занятная деталь: пожалуй, она может объяснить, почему я внезапно выпустил руль и дал этой комнате самовольно блуждать во времени. На письменном столе Аллана стоял календарь — тонкие пластинки слоновой кости в металлической подставке, и дата на календаре указывала: 8 октября. Ошибка, и ничего больше? Или колдовское заклятье: вот так, бывает, ночью, зачитавшись какой-нибудь книгой, вдруг вскакиваешь на кровати, в такой знакомой комнате, где уже несколько секунд не слышно тиканья остановившихся часов, — и тебе кажется, будто ты стоишь на крутой тропинке, а рядом грохочет скорый поезд.
Почему бы не представить себе, что всюду, где бы ни оказался такой вот Аллан, возникает нарыв — один из тех нарывов, которые медицина в тяжелых случаях считает небезопасным, но действенным средством самозащиты организма? Нарыв, притягивающий к себе все токсины, все перерожденные клетки, все мертвые частицы, какие постоянно присутствуют даже в самом здоровом теле.
Когда в последнем акте "Лоэнгрина" герой снова появляется вооруженным с ног до головы, в тех же серебряных латах, в каких его видели в первом акте, сразу понимаешь, что он уйдет навсегда — что орбита этого светила, вместе с его спутником, Граалем, во второй — и последний раз — пересечет земную эклиптику. Крыло на его шлеме — как комета, бесследно исчезающая в черной бездне неба. Так вот: если бы Эльза и король увидели его впервые именно в эту минуту, они ощутили бы что-то похожее на то, что ощутил я: головокружительное низвержение в пустоту, стеснение в груди, тяжесть на сердце.
В опере есть и еще один примечательный момент. В сцене в опочивальне, в самой середине любовного дуэта, Эльза вкрадчиво, с ангельским лукавством задает первый роковой вопрос. И катастрофа начинается. В звуках оркестра еще царит загадочная неясность, но мало-помалу высвечивается едва заметная, гибельная трещина, возникает смутная тревога, как на вершине горы, между двумя склонами. Помню, у меня задрожали руки, когда, как сказано в либретто, "Лоэнгрин нежно обнимает Эльзу и, подойдя с ней к окну, показывает ей цветущий сад". Окно открыто, и в окно смотрит пугающе прекрасная лунная ночь, ночь без сна, растревоженная непривычными шорохами, беззвучным колыханьем бледных лепестков, — ночь, полная предзнаменований, ночь, когда оживают цветы. Восход луны, туманной, коварной, луны, обманывающей мечты, той "непостоянной луны", которою клянется Ромео и которой не доверяет Джульетта.
На небе хищно сверкают все жестокие звезды Халдеи. Ночь облита голубоватым, неживым светом. Герой, повернувшись в профиль к зрителю, поставив ногу на каменную скамью, подперев подбородок рукой, облокотился на подоконник, и в этой ночи разбитых надежд и надежд, непостижимо сбывшихся, из глубин этой ночи, прорезаемой далеким зовом трубы, в неверном свете зари, борющемся со светом факелов, ему одному видны вздымающиеся лебединые крыла, илистое устье Шельды, где ночная волна заливает песчаные отмели, плеск прилива, далекая зыбь, несущая на себе корабль, как лошадь — всадника, — и сердце у него разрывается от непостижимого ликования: завтра выйдем в море.
Почему я всегда представляю себе Аллана на остром гребне горы, между двумя склонами, озаренным двойным светом, играющим на двух досках? Иногда, глядя на него, такого невозмутимого, такого раскованного, идущего по жизни с такой нереальной беспечностью, я смутно догадываюсь, что он готовится сделать решающий ход в какой-то очень важной партии, где ставка необычайно высока — и что речь туг вдет не об успехе или выгоде: нет, он действительно поставил на карту все. Его пресловутая непринужденность, его небрежная улыбка, — чтобы подыскать для этого сравнение, надо вспомнить канатоходца: вот он идет в вихре света, а справа и слева — темная пропасть, и одним своим видом, без всяких ухищрений, заставляет вас понять, какой это подвиг — идти по прямой линии, от одной точки к другой.
Рядом с ним кажется, что всему вокруг грозит неминуемая гибель, что все вокруг обречено. В его присутствии блекнут все яркие краски. Он бросает наглый вызов, это нельзя не почувствовать. В Роскере он забавлялся, идя по самому краю стены, над обрывом. Это не просто мальчишество. Скажу больше: в таких вот ребяческих выходках, за которые он, разумеется, не стал бы извиняться, ярче всего проявляется его всегдашнее желание задеть, ранить, придающее даже незначительным его поступкам что-то оскорбительное.
Весьма вероятно, что сохранение жизни вокруг нас всецело зависит от некоего усилия, которое мы совершаем все вместе, с неимоверным терпением, вслепую, поддерживая друг друга, приглядывая друг за другом, чтобы не сбиться с трудного пути нашего существования. Весьма вероятно, что жизнь может продолжаться только в силу всеобщей и неукоснительно соблюдаемой договоренности. И вот мне кажется, что Аллан снова и снова подстрекает меня к необдуманному шагу, к маленькому сумасбродству, которое поставит меня на грань между жизнью и смертью, между разумным и непредсказуемым, — проще говоря, к минутной потере самоконтроля; на полном ходу поезда открыть в вагоне наружную дверь, а не дверь в коридор, из любопытства нацелить на кого-то револьвер, поставить — почему бы и нет? — свою подпись под необеспеченным чеком, — шагу, неизбежность коего мы снова и снова отдаляем от себя ценой таких непрерывных, тяжких усилий, что, подобно акробату, балансирующему на проволоке, перестаем это сознавать. И я вспоминаю слова, прочитанные в книге какого-то философа: "Дьявол — это внезапность".
Пора прекратить вдаваться в рассуждения, пора отрешиться от невидимого и обратиться прямо к сути дела.
Подобно тому, как над водопадом, в сверкающей туче брызг, образуется радуга, у иных людей, приковывающих к себе наше внимание, есть дар превращаться в своего рода переливчатое облако, сквозь которое мы видим мир во всех красках, какие они у него позаимствовали.
Ирэн его ненавидит. Она утомляет меня своими вечными колкостями, ядовитыми замечаниями. "Роковой мужчина, пошлый красавчик, великосветский хлыщ". Она старается внушить мне, что для Кристель было бы унизительно, если бы она по уши влюбилась, словно какая — нибудь модистка — в короля экрана.
Она не знает, не понимает, что откровенно резкий стиль, твердый, безжалостный чекан — прими как есть либо отвергни — словно у профиля на медали, грубоватое, бьющее в глаза своеобразие, которое завораживает массу и подчиняет ее себе, — что оно отталкивает только мнимо утонченных людей; с толпой простодушных сливаются в едином восторженном порыве и могучие умы, они искренне верят, что увидели знак, отблеск чуда, который прельщает нас в неукротимых героях Истории и перед которым, вопреки доводам рассудка, готовы склониться все без исключения. Людей, отмеченных этим знаком, мы судим по совсем иным законам, нежели законы хорошего вкуса.
18 августа
Теперь я знаю, почему письмо Грегори произвело на меня такое неизгладимое впечатление, почему оно до сих пор держит меня в постоянной тревоге, заставляет быть настороже. Это письмо, не требовавшее ответа, было из тех, что нужны лишь для завязывания последующей переписки — но оно имело и самостоятельное значение, независимо от нее, как сифон, без коего нельзя привести в действие сообщающиеся сосуды. За некоторыми письмами, написанными в определенном тоне, явно должны последовать другие. Только вот адресаты могут быть не те же самые. Совсем напротив. Такие письма похожи на сигналы, они вдруг выхватывают вас из темноты, словно лучом прожектора с маяка, как будто желая дать вам понять, где вы находитесь, предупредить об опасности, если недалеко от вас имеются скалы или рифы. В моменты обостренной чувствительности и проницательности эти послания вдохновенных слепцов напоминают о бодлеровских "живых колоннах", изрекающих невнятные слова. В некий момент моей жизни я буквально подвергся бомбардировке анонимными письмами. Несмотря на всевозможные ухищрения, было ясно, что написаны они разными чернилами и разным почерком. По-видимому, в моем тогдашнем угнетенном состоянии духа я был как раненая курица, которую клюют со всех сторон. А может быть, я перехватил позывные каких-то неведомых передатчиков, как иногда случайно доводится слышать чей-то телефонный разговор. Или у этих писем на самом деле вообще не было определенного адресата — это были монологи, которые просто положили в конверт, запечатали и пустили гулять по свету. Я говорю об анонимных письмах. Но письма бывают не только без подписи, бывают еще письма без обращения. Пожалуй, мне хотелось бы получать только такие письма, после чтения которых я считаю своим долгом дважды проверить адрес на конверте.
В распространенном выражении "человек в центре событий" есть какая-то странная двусмысленность. Тот, кто по воле обстоятельств оказывается в центре происшествия, реальные последствия которого никак его не затронут — и одновременно тот, в чьих руках пушинка, что может заставить опуститься до земли чашу колеблющихся весов.