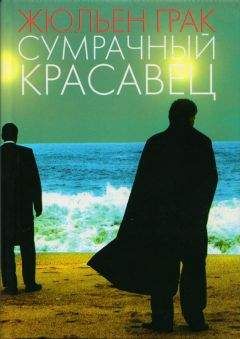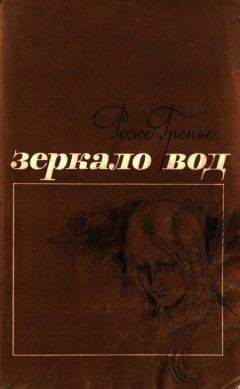В распространенном выражении "человек в центре событий" есть какая-то странная двусмысленность. Тот, кто по воле обстоятельств оказывается в центре происшествия, реальные последствия которого никак его не затронут — и одновременно тот, в чьих руках пушинка, что может заставить опуститься до земли чашу колеблющихся весов.
Сегодня утром я получил письмо от Кристель. Почему вместо того, чтобы просто поговорить со мной, она выбрала более официальный, более обязывающий способ общения? Но лучше привести здесь это письмо.
Дорогой друг!
Не удивляйтесь, что я называю вас так. Вы мой друг с того вечера, вернее, той ночи, когда мы с вами гуляли на дюнах. С того вечера я знаю, что могу на вас рассчитывать. Если с тех пор вам показалось, что я стала другой, — холодной, безразличной к вам, — пожалуйста, не сердитесь на меня. Я несчастна. Мне необходимо вам это сказать, мне необходим ваш совет.
После того дня в Керантеке вы, конечно же, всё поняли. У меня нет никаких надежд. И не было с самого начала. Из-за той женщины. А главное, я сразу поняла, что Аллан — не тот человек, который может принадлежать кому-то. Он недосягаем. Обычные люди стремятся к покою, к удобству, они безлики и неповоротливы, как мебель, а он всегда в движении, в дороге, у него взгляд пассажира, стоящего на ступеньке вагона, когда поезд отходит от платформы: этот взгляд сверху вниз, уже рассеянный, уже далекий, — даже от тех, кто дороже всего, — а потом вдруг устремляющийся вперед. И та же стеснительная торопливость, желание ускорить затянувшееся прощание, оборвать бессмысленный разговор. Можно ли представить себе совместную жизнь с ним? Я чувствую, как неудержимо уходят минуты. Мне грустно, грустно до ужаса.
По отношению ко мне Аллан ведет себя загадочно. Не пойму, что это: безмерная доброта или безмерное коварство (такой характер, как у Аллана, нельзя свести к одной только доброте или к одному только коварству). В хорошие минуты он проявляет ко мне ту ласковую предупредительность, какую проявляют к тяжелобольным сиделки: в другом человеке они врачуют собственное несчастье.
Да, он любит мое общество, любит прогуливаться со мной вдвоем. Иногда приглашает на дальние прогулки. Он говорит со мной с такой удивтельной нежностью. Берет мои руки в свои и долго смотрит мне в глаза. В эту минуту я все бы отдала, чтобы утешить его, — он кажется таким грустным. Здесь его не любят, то есть, я хочу сказать, его никто не понимает, не любит так, как он заслуживает. Вы — единственное исключение, я это знаю, уверена в этом. И — простите меня — считаю себя вашим другом еще и поэтому. Может быть, всем остальным он просто мешает.
Я чувствую, как время у меня утекает, будто песок между пальцами. Иногда я гляжу на море, на дюны, на сосновые рощи, на пляж в глубине бухты, и мне кажется, что этот пейзаж во мне превращается в бесплотное видение, расплывается и исчезает. Я словно путешественник, ненадолго сошедший с корабля на незнакомый остров, — он вдыхает упоительно легкий воздух, который не успеет ему надоесть, да и земля, пусть на мгновение, будет для него легкой и воздушной. Все верно: Аллан рядом со мной — это как близость большого путешествия.
Моя мать удивлена, что я здесь так долго. Ведь раньше я любила разнообразие и не задерживалась на одном месте. Да, это верно, я стала другой, теперь я мечтаю только об одном, чудесном путешествии во времени, оно будет длиться неделями, месяцами. Я увижу, как солнце убавит свой пыл, а ночи станут прохладнее, как опустеют отели, как сырым, зябким октябрьским утром будет сверкать море. Я услышу, как ветер шумит в затихшем лесу, позади домов, которые точно ослепли, закрыв окна ставнями, и сразу стали такими бедными, жалкими, такими незащищенными, услышу упругий ветер с моря, буду гулять одна по аллеям, усыпанным сосновыми иглами, в неярком свете праздных дней осени. Я закрою глаза, и мне будет казаться, что я попала в плен этого опустевшего поселка, как жители американского городка, когда в их шахте кончился уголь. Для меня откроются сады с заржавелыми решетками, никому не видимые, поздние цветы, которые вольный ветер осыпает горькой морской солью. Услышу, как захлопываются последние двери, поворачиваются последние ключи в замках. Потом будут первые утренние заморозки, огонь в камине большой, неуютной виллы, скрипучие деревянные панели, потрескавшиеся и отстающие от стен; ледяные сквозняки пробираются сквозь широкие щели под дверями. Ранний вечер, сонливый и скучный, замерзший петух провожает криком последний, желтый луч солнца. А однажды утром я проснусь на другой планете: пляж покрыт снегом, и волны прилива впиваются в него с шипением, словно докрасна раскаленное железо, если его опустить в воду, а над этой роскошной горностаевой мантией, будто в зимней сказке, висит красный, как раскаленное железо, солнечный диск, и безлюдные улицы к вечеру наполняются мягким, бередящим душу светом. Я буду здесь одна, вместе с Алланом.
А порой он бывает совсем другим — холодным, заносчивым, язвительным — будто хочет дать понять, что он играет со мной, что между нами никогда ничего не будет. Иногда он приводит меня в рощицу позади церкви, туда, где над темной, почти черной шелковистой травой колышется легкая зеленая дымка ив и орешников. Там мы ложимся под деревьями и очень скоро чувствуем, что нам не о чем говорить — и остается только смотреть на небо, на сияющие пятна, которые мелькают между ветвями. Там время для нас бежит не так быстро, как в других местах, оно словно замирает, — как в священных садах на аллегорических картинах, где богиня, взлетев, навсегда повисает в воздухе: вспомните "Весну" Боттичелли, этот лесок в лунном сиянии среди бела дня, и девушек, застывших, будто в желе, в этой прозрачной, как стекло, полутени, — прямо спящие красавицы. Ах! Как бы мне хотелось, чтобы он каким-нибудь заклинанием навсегда усыпил нас обоих, вырвал меня из этого бесполезного мира, чтобы мы, словно умершие, лежали в погребальной ладье, и нас уносило бы течением к той неведомой стране, откуда изгнало его проклятие и куда он стремится всей душой.
А потом опускается вечер, под сводом ветвей вдруг становится темно, и он долго слушает далекий бой часов, особенно гулкий в сумерках.
Когда ты рядом с ним, у тебя пропадает интерес к жизни, как у стариков, стоящих на краю могилы. Чтобы осознать во всей полноте его нежность, его молчаливое дружеское участие, надо представить себе руку, навеки закрывающую любимые глаза, представить властные, суровые, но милосердные прикосновения той, что одевает умершего в саван, с загадочной улыбкой складывает на фуди мертвые ладони. Да, я хотела бы, чтобы Аллан был со мною в мой смертный час. Ничего больше он, возможно, и не в состоянии для меня сделать. Но тогда, перед смертью, он просто взял бы мою руку, которая уже принадлежит ему, и я покорно пошла бы за ним. Между нами больше не было бы слов, одно лишь безмерное доверие.
Но я, кажется, отклонилась от темы моего письма. Сейчас соберусь с силами и задам вопрос — от ответа на него зависит вся моя жизнь, это мой последний шанс. Вы, конечно, с ним мало знакомы, но он испытывает к вам особое уважение. Думаю, здесь никто, кроме вас, не сможет понять, разгадать этого непроницаемого человека.
Кто он — Аллан?
Конечно, я не прошу нарисовать мне его портрет, дать заключение о его характере. Мне кажется — быть может, это глупость, сумасбродство, но я настаиваю на этом — что на заданный мною вопрос надо ответить одним словом. Ведь если вопрос о нем — только вы меня поймете — ответом должно быть лишь откровение. На нем стоит невидимая печать, он окутан светом, от которого меркнет все вокруг. Я хочу знать, что подает мне знак сквозь эту сияющую завесу.
Кристель
19 августа
Письмо Кристель вызвало у меня жгучий стыд — за мою лень, за непростительное малодушие. А сегодня я просыпаюсь, протираю глаза, услыхав повелительный голос. Нельзя же вечно предаваться раздумьям и грезам под впечатлением этой странной личности. Надо ответить — и не только Кристель на ее письмо: Аллан сам по себе тоже нуждается в разгадке. Чтобы не участвовать в этом, мне бы следовало уехать, как сделал Грегори.
Однако я остался. И теперь чувствую себя обязанным что-то сделать: но что именно? Пока не знаю. Некоторые люди не выносят возле себя беспристрастных свидетелей, изгоняют тех, кто просто наблюдает, заставляют принять ту или другую сторону, нагнетают атмосферу воинственности, междоусобицы. Аллан пришел принести не мир, но меч. И письмо, которое я получил вчера, — лишнее тому доказательство.
22 августа
В эти дни прочел "Жизнь Рансэ" Шатобриана, — наверно, мной руководил инстинкт, который обычно помогает мне безошибочно выбрать книгу, наиболее соответствующую моему настроению в данный момент. Удивительная книга, словно не написанная, а нацарапанная, но нацарапанная когтистой львиной лапой, по которой узнается подлинный писатель. Растрепанная, бугристая, шероховатая, она похожа на покрытое серым пеплом дерево, в которое ударила молния. Она заставляет вспомнить о мессе в первый день Великого Поста, о бодрящей строгости холодного, прозрачного сентябрьского утра, когда кажется, что наша планета превратилась, в дом, откуда вывезли мебель; а шум в амбарах и давильнях похож на шаги грузчиков, раздающиеся в пустой квартире. Затем словно проносишься на скаку по жилищам привидений, по призрачным чердакам, где подрагивают блестки на платьях, взлетают кринолины, трепещут пожелтевшие драгоценные кружева, камзолы, султаны из перьев, — под легкое постукивание колесницы из человеческих костей, в стремительном полете хоровода призраков, достойном мольеровского "Дон Жуана". Временами язвительная фраза, похожая на сухой лист, поздней осенью оставшийся на винограднике, пережевывает горькую правду, словно старая лошадь. Как у Бодлера: "Коль сердца урожай однажды мы собрали…"