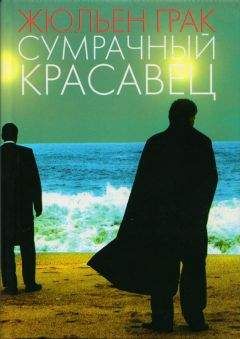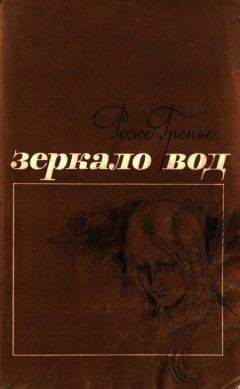Жак вел себя как дома, бесцеремонно рылся в ящиках и в шкафах, а я тем временем обводил комнату взглядом человека, видящего ее впервые, тем свежим взглядом, которому дано увидеть столь многое и который я давно должен был бы утратить. Вошедшему казалось, что вся комната залита ярким, бьющим в глаза светом, однако это было не так: в окно справа проникал зеленоватый полумрак, вползали легкие полутени колышущихся деревьев, — и с их помощью темные углы организовывали оборону, защищали сокровенное, заветное, своеобычное, не давали выцвести воспоминанию.
Когда открылась дверь, комната вызвала у меня ощущение необычайного простора, а потом, всмотревшись, я понял, что дело тут не в размерах — они были велики, но отнюдь не слишком. Однако благодаря игре света, заливавшего комнату во всю ее длину, а также особенной расстановке мебели, оставлявшей много свободного места, в комнате было полно воздуха, и дышалось в ней упоительно легко: только высоко в горах бывает такая атмосфера. В моем представлении такая комната — верх роскоши и элегантности, причем элегантности врожденной, вдохновенной: совсем не то, что современное решение интерьера, когда люди задаются целью непременно заставить мебелью, использовать каждый клочок пространства, видимо, беря за образец помещения в блокгаузе или на военном корабле.
Здесь глаз отдыхал от безликой пошлости, какая была присуща остальным комнатам отеля. Ближе к окну, выходившему в парк, был уголок, говоривший о характере и пристрастиях его обитателя: по крайней мере, на это указывал набор разнородных вещей, из тех, которые переселенец, моряк или ученый-исследователь непременно положат в свой сундучок, и с помощью которых, даже под звездным небом пустыни, можно воссоздать привычный для их владельца уют. На стене висел необычного вида темно-синий плащ из грубой шерсти, тяжелый, похожий на епископскую мантию, — почему-то я сразу подумал, что Аллан привез его с Гималаев — а чуть подальше лежала старая бита и крикетная кепка, рядом — драгоценное индийское оружие, тут же стоял массивный сундук черного дерева, сплошь инкрустированный медными гвоздиками и звездочками, чудесной арабской работы. Растерянные, настороженные, точно слепые в этой залитой беспощадным светом комнате, зябко притулившиеся у низкого кожаного дивана, эти вещи вызывали в воображении натянутую вокруг них палатку, были нехитрой передвижной декорацией, заботливо населяемой родными призраками; так на корабле убогий скарб курильщика опиума помогает ему забыть об ужасах чужбины.
На стене еще висели пластинки из полированного металла с замысловатыми узорами и загадочными письменами, какие служат для ритуалов тибетской магии; мне они почему-то напомнили знаки на стене пещеры в "Приключениях Артура Гордона Пима". На кресле в беспорядке валялись фрак, шарф и вечерний галстук. Здесь веяло ледяным холодом, который еще усиливался от вида этого подобия алькова, пришвартованного к комнате, точно спасательная шлюпка; да еще яркий свет, льющийся в комнату, обшаривающий углы, отражающийся в гладких поверхностях, — все вместе наводило на мысль о священной горе, о последнем прибежище, о куполе обсерватории, крыше небоскреба, о башне маяка, о верхней площадке лестницы, где преследуемый беглец слышит зов бездны, готовой принять его…
Тем временем Жак болтал без умолку, носился по комнате, вытаскивал из ящиков и демонстрировал всякие редкости, — китайский веер, кусок кашемира, изумительную шаль, похожую на звездное небо, — и как будто не испытывал того тягостного ощущения, от которого мои ноги словно врастали в ковер, движения делались медленными, язык прилипал к небу, — ощущения скованности, неловкости, от которого пол подо мной ходил ходуном, как палуба при сильной качке.
Да, я болен! Я болен.
Жак наконец нашел шахматы, и я, оглядываясь в поисках места, куда их можно было бы поставить, заметил у двери маленький ломберный столик. На зеленом сукне ярко выделялось невскрытое письмо: очевидно, его положил туда коридорный, когда пришла вечерняя почта. Я вспомнил о тревогах директора и уставился на этот белый прямоугольник с жадным любопытством. Адрес был написан наклонным женским почерком, изящным и властным. О каком срочном деле могла идти речь в этом письме, брошенном в пустоту и тишину комнаты? Долорес? Конверт притягивал меня, как магнит, в нем словно сосредоточилась тревога, которой была пронизана эта комната и которая мучала меня с первой минуты, как мы здесь оказались. Чтобы освободить место для шахмат, я взял письмо — оно жгло мне пальцы, и, спеша от него избавиться, я положил его на кровать.
И теперь меня охватил необоримый страх. Страх, что Аллан вернется и застанет нас — меня — в своей комнате. В растерянности и все возраставшем оцепенении я смотрел, как Жак, весело болтая, расхаживал взад-вперед, беспричинно суетился. Неужели он не понимает, что пора уходить? Мысль о том, что нас могут застать, застать здесь, становилась невыносимой — и в то же время я был не в силах пошевелиться или вымолвить слово, чтобы вынудить Жака уйти. А Жак принимал мою застывшую улыбку за одобрение — и продолжал разглагольствовать, отуплять меня своим неумолчным жужжанием, бессмысленной суетой. Это было похоже на кошмарный сон, когда тебя преследует убийца, а тебе надо только нажать на кнопку звонка, или закричать, или открыть дверь — и ты спасен, — но рука не поднимается, крик замирает в горле. Аллан, конечно, через минуту будет здесь — он вернулся в отель и уже поднимается по лестнице.
В коридоре послышались шаги. Я с необыкновенной, болезненной отчетливостью расслышал, как Аллан у двери комнаты прощается с Кристель, — но тут я заметил изумленный взгляд Жака, и до меня дошло, что он задал мне какой-то вопрос и ждет ответа, а я только механически улыбаюсь. Нервы у меня были напряжены до предела: я услышал приближающиеся шаги, и вот дверь открылась. Наконец-то! Я испытал чувство безмерного облегчения — так, наверно, чувствует себя преступник, признавшийся в содеянном.
В это, конечно, трудно поверить, — но и рассказывать об этом нелегко.
Аллан вошел, увидел меня и на мгновение остановился в замешательстве — потом совладал с собой и с присущей ему обаятельной непринужденностью, как ни в чем не бывало, стал убедительно играть роль хозяина дома, принимающего гостей… Я краснел, бледнел, то захлебывался словами, то замыкался в молчании; наконец, как маятник, постепенно обретающий равномерное движение, пришел в себя — но тут краем глаза заметил письмо и понял, что я погиб.
Несколько минут продолжался почти бессвязный разговор: с бьющимся сердцем, с затуманенной головой, совершая над собой неимоверные усилия, я произносил какие-то слова. Аллан, слегка удивленный моим состоянием, озадаченно поглядывал на меня. Я был предельно возбужден.
— Туг вам письмо, оно лежит на кровати, — произнес я, едва не задохнувшись. Я чувствовал, как лоб и ладони у меня покрываются потом. Я сделал это замечание совершенно невпопад, прервав Аллана на полуслове, как человек, который, запыхавшись, прибегает сообщить о пожаре или чьей-то внезапной смерти.
Очевидно, мое заявление прозвучало настолько неприлично, что даже Жак, чье наивное спокойствие во время всей этой сцены казалось мне почти неправдоподобным, встрепенулся и с глупым видом уставился на меня. На мгновение воцарилось замешательство: это было чудовищно.
Потом Аллан, все же слегка нахмурившись, взля письмо, не говоря ни слова и не сводя с меня глаз.
Я перечитываю написанное и горько улыбаюсь: вот до чего может дойти обычно послушное воображение, когда оно не на шутку разыграется. Как объяснить такой невероятный, ничем не оправданный приступ малодушия, такую нервическую слабость, проявленную под воздействием пустых, детских страхов? При воспоминании об этой нелепой панике у меня до сих пор еще выступает холодный пот, непроизвольно сжимаются челюсти. Неужели я схожу с ума?
15 августа
Все еще пытаюсь понять, что именно в этой комнате могло вызвать у меня такую неодолимую тревогу, такое ощущение жути? Пытаюсь — и не понимаю. Это была обычная комната. И вовсе не мрачная, а, напротив, даже уютная. Когда Аллан вошел, он протянул мне руку (он только на миг замешкался), своим радушием, своей доброжелательностью он, казалось, хотел убедить меня: "Здесь нечего искать".
Когда мы долго, сосредоточенно, сознательно отрешившись от всего остального, разглядываем кресло, или портрет, или узор на гобелене, то порой начинаем видеть их, видеть по-настоящему, как они есть, во всем присущем им неповторимом своеобразии, ничем не объяснимом, не подчиняющемся никакой логике (вплоть до того, что все остальное становится для нас невидимым), нам открываются не только их зримый, знакомый облик, но и те черты в них, благодаря которым они могли бы быть чем-то другим, — и мы чувствуем, что отныне нам нельзя будет сказать: "это просто кресло, это только портрет, это всего лишь гобелен": и тогда, в редких, правда, случаях, нас охватывает панический страх, подобный тому, какой я пережил вчера.