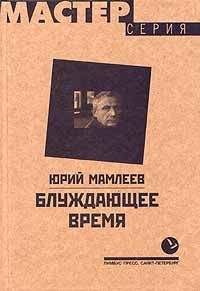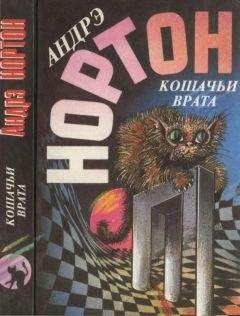Вот таких поэтов мы будем давить. Ну, мне пора. Если Никита будет – ночью же задушу».
Юлик отряхнулся, воробьи взлетели, ребятишки – ни-ни. И пошел Посеев угрюмой походкой в подвал. Уже вечерело.
В подвале спокойно принимали новеньких, не расспрашивая особо. Мало ли чего бывает с человеком: то жена выгонит, то квартиру пропьет, то просто приличная жизнь осатанела. И Юлика встретили невопросительно, мирно. Уделили угол: мол, спи, бессонницей тут не страдают. Юлик лег на что-то склизкое и мягкое, кругом темнота, только где-то у стен вздыхают. А кто вздыхает – может, даже не человек, а крыса? «Все ведь одним миром мазаны – и насекомые, и ангелы, так говорил Крушуев», – вспоминал Юлик. Не спалось.
Но сразу же брать быка за рога не решался. Да и кого душить? Который, к примеру, среди них Никита? Не будешь же в лоб спрашивать, а потом – к горлу. Осторожность нужна, твердил частенько Артур Михайлович, – осторожность!
Юлий тогда решил считать до ста. И быстро заснул. Во сне видел мамашу и Михайловича – сидели на стуле в обнимку. И все было наоборот: Артур был покойник, а мамаша – живая.
Среди ночи, однако, Юлий услышал около себя шевеление. Подумал – кот, а оказалось – человек. Приползший. То был шептун Слава. В рванье, ширинки на брюках нет, но глаза темные, непонятно благодатные, нескучные, живые, но по-подземному. Юлий ничего этого не понял, не видел, но на время как бы парализовался: может быть, со сна. Шептун же, Слава, приложил свои исстрадавшиеся губки к уху Посеева и стал шептать:
– Новенький, учти, мы – бывалые, якобы бомжи, смерти не боимся, и ты – не бойся… Здесь все свои… то есть которые принимают жизнь за смерть, а смерть за жизнь. Так сам Tруп говорил!
Слово «труп» как-то задело Посеева, вошло внутрь, застыло там, но действовать и говорить он еще не мог: онеподвижился.
А Шептун продолжал:
– Тихонько мы тут живем, тихонько… Дама молодая к нам раньше приходила. А с тех пор как Tруп ушел, сама ушла. Вот так и живем теперь без Трупа, хуже стало без него, но ничего: маемся. Бог даст и Труп наш скоро придет…
Юлий очнулся. Встал. Могучими руками приподнял немного Шептуна и отнес его в другой угол. И все в каком-то молчаливом ошалении. Шептун не сопротивлялся, а сразу заснул.
Утро принесло радость. Кто-то пел. Да и свету стало побольше. Некоторые уже ушли: искать пищу. Первой ласточкой в смысле пения был, как всегда, ученый. Юлий хотел было запеть, но передумал. Еще заметят, как ты поешь. Тоже ведь примета. Вместо этого он громко спросил:
– А кто здесь труп?
К нему тут же подскочил Нарцисс в гробу, Роман Любуев.
– Это не я, – возразил он.
Юлий по-черному поднял на него голову.
– А кто?
– Я не умираю, – заверещал сразу Роман, по-своему разболтавшийся и распустившийся последнее время, – я почти умираю и во время этого любуюсь собой. Потому что жалко себя становится и оттого еще больше смотрюсь и любуюсь. Зеркальце всегда при мне. Думаю, глядя на себя: ох, какой ты, несмотря ни на что, красивый; врешь, не уйдешь от меня, не уйдешь! Век буду собой любоваться и не умру до конца. Тихий я, новенький, поэтому стал. Чем больше умираю, тем больше люблю себя.
В стороне завыл воющий.
– Удавить вас всех надо, – не выдержал, почти зарычав, Юлий.
– Правильно, правильно! – взвизгнул Роман. – Именно удавить, но не до конца. Чтоб и удавленные, мы могли бы любоваться собой и в зеркало смотреть.
– Ладно, ладно, зубы-то не заговаривай, – раздраженно прервал Юлий. – А где же труп ваш, о котором ночью шептали?
Тут уж подошел воющий, Коля, переставший все-таки выть.
– Труп наш, Кружалов Семен, ушел от нас не так давно, – ответил он, – сказал, что хочет побродить по свету.
– Что ж это за свет такой, по которому трупы бродят? – завизжали в соседнем отсеке каким-то бабьим голосом. – Это не свет, а темень одна!
– Вот так нас понимают! Народ чего-то поглупел за последние два-три дня, – пожаловался Роман. – Семен свое решение сам на себя взял. Не придет больше к нам… Это тоже ему не легко далось: шутка ли – по Москве бродить? У нас грязно, но крыша над головой есть. А там ведь сейчас не время Максима Горького, чтоб в люди идти… Но Семен – человек страшный, он всех распугает.
Юлик наконец понял: трупом они называют человека. А Горький здесь притом, потому что сказал: человек – это звучит гордо. Значит, и труп – тоже звучит гордо.
И он высказал эту мысль.
– Как верно сказал-то! Как верно! – подскочил откуда-то взявшийся Шептун, которого Юлий перенес. – Сразу видно, новенький – наш человек! Враг такого не скажет! – и Слава полез целовать Юлия.
Спросонья у Юлия не было воли его сбросить, но он все-таки рыкнул слегка:
– Да не ваш я! Не ваш!
…Собрали завтрак. Уселись трое: Шептун, Нарцисс в гробу и воющий. Четвертым стал Юлик. Он и припас водку. Остальные к этому времени ушли.
– Скудно живете, ребяты, – сурово сказал Юлик после первой.
– Да откуда богатство-то здесь, – проскулил Шептун.
– Да и ну его, богатство! Зачем оно?! – добавил Роман. – Мне лишь бы умереть почти.
– Народ у нас в подвале, конечно, мечтает о безскудности, даже вырваться некоторые хотят, но далеко не все, другие считают себя людьми конца, – объяснил Коля воющий.
– На конец света надеются! – зарычал Юлий. – Вот таких пороть надо!
– Что-то вы такой лихой, все пороть да давить, небось из олигархов уволили? – спросил Коля.
Юлий одумался.
– Да я от нервов так. Нервы стали никудышные.
– Если от нервов, то это ничего, – согласно кивнул Шептун. – У нас тут подлечишься. Обстановка здесь более здоровая, чем наверху.
– Тем более, Дама помогала, – вставил Нарцисс в гробу, – даже пиры здесь закатывала.
Юлий отнес «Даму» и «пиры» к бреду, к глюку обитателей и не счел нужным переспросить.
После третьего малюсенького стаканчика Посеев решил, что пришло время узнать о главном:
– А старички-то, пенсионеры глубокие, у вас бывают?
Сначала все замерли, удивившись, но потом ничего.
– А как же, бывают, куда они денутся!
– А вы что же, – спросил вдруг воющий, – к старичкам какую-то страсть, что-ли, имеете?
Но Колю толкнули в бок.
– А что? – приосанился он. – Вы, новенький, не обижайтесь: бывает сейчас такое время голубенькое.
Юлий сгоряча хотел дать в морду, но стерпел из-за дела. Но тут вылез Нарцисс в гробу:
– Вот у нас тут, примерно, Никита бывал. Видно, что человек в возрасте. Но его никто не понимал.
Юлий возликовал от такой легкой удачи и забыл о несправедливой обиде. «Сам Никита мне в лапы лезет», – подумал он.
– Бывал? А где же он теперь?
– Хи-хи-хи! – прямо-таки запищал от радости Коля. – Я же говорил: вас тянет на старичков. Я хоть и вою, но наблюдательный!
«Этот паразит всю линию сбивает», – проскрипел в уме Юлий.
– Это потому что старички – перед смертию. Потому их жалеть надо, – вставил Нарцисс в гробу.
У Юлия закружилась голова.
– Где Никита?! – заорал он, точно сорвавшись с цепи, чувствуя, что с этими субъектами он может потерять свой здоровый человеческий разум.
А разум Юлий любил идеологически, потому что Крушуев часто ему твердил, что организация ведет борьбу во славу человеческого разума.
Все прямо окаменели.
– Он и вправду старикашкофил, – пробормотал Шептун. – Ух, тараканище…
Но Нарцисс в гробу открылся:
– Никита уже давно не приходит. Скрылся пока.
– Как не приходит? – у Юлия даже голос дрогнул.
Нарцисс в гробу на это подмигнул Шептуну.
– Да просто не приходит, – ответил Роман. – Мало ли какие у него дела… Он вас не ждал с объятьями, – тихонько съязвил Нарцисс.
– Но может, он придет скоро, сам по себе, – заявил Коля. – У него расписания ведь нет!
– А откуда же он приходит? – спросил Юлий.
– Ну это ж никто не знает, – развел руками Шептун. – Но похоже, что с того свету.
– Старичок, да еще с того свету! Кому такие нужны?! – вскрикнул Коля воющий. – Не пугай гостя! Отобьешь ведь охоту!
Юлий опять скрипнул умом, но решил, что такая версия ему только на пользу: для маскировки.
– Вас-то как зовут, наконец? – спросил Шептун. – Когда вы меня переносили, я забыл спросить.
– Александром меня зовут, – сурово ответил Юлий.
– Ну Александр так Александр, – миролюбиво согласился Шептун. – Будем друзьями.
Юлий задумался: «Надо здесь пожить и подождать. Может быть, сам и появится в один прекрасный день».
Одним утром особенно разбушевалось солнце. Оно палило так, будто хотело сгореть. И Таня проснулась в своей комнатке. «Жить… жить… жить!» – было первой ее мыслью.
Быстро вскочила с постели и так, в ночной рубашке, побежала к большому зеркалу – в столовую. Но потом устыдилась: «Не жить, а быть, быть… Я была и во сне… где-то даже в глубинном сне», – мелькнуло в ее сознании. Но избежать своего отражения не удалось – и у нее всегда замирало сердце при этом, как от удара нездешним хлыстом. Отражение увиделось в зеркале, как внезапный восход солнца, как чудо…