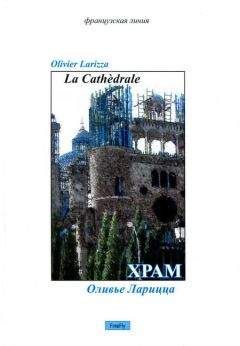Ночное небо столицы часто напоминало чернильницу, опрокинутую на светлое пятно моих идей. Может, это внушал образ матери, который чудился мне? Мое сердце округлялось, не в силах в это поверить. Затем опротивело описывать жестокую реальность: ее атрофический боковой склероз, и застоявшуюся тяжелую воду, и то, что каждый год во Франции совершается десять-пятнадцать тысяч тайных эвтаназий. Шизофрения великой страны, которая по каким-то моральным причинам не признает законной смерть из сострадания, но запросто может послать своих сыновей, находящихся в полном здравии, погибать в Афганистане или в другой горячей точке… ни за что! Сколько лишенных свободы людей — заложников своего немощного тела, осужденных на муки до решающего момента избавления — обращалось к президенту Республики с просьбой разрешить эвтаназию! И все получили отрицательный ответ, некоторые покончили с собой до того, как получили ответ, не в силах терпеть мучения. А если я отошлю свою книгу президенту, что же тогда — бежать в Венесуэлу? Неужели меня признают преступником? Бывали минуты, когда я чувствовал, как меня истязает, мучает демон за то, что вынашиваю ангела в себе.
Почему же то, что разрешено при зачатии человека, запрещается совершать в конце его жизни? Как может одно и то же общество соглашаться с абортом и одновременно отвергать эвтаназию? Разве оба эти принципа не находятся на одной и той же этической прямой? Ибо мораль (как крайняя необходимость) — это общественная конструкция, что вводит в заблуждение. На основании этой морали французский закон требует не прекращать медицинский уход за тяжелобольными людьми, любыми средствами продлевать им жизнь. Стало быть, закон оправдывает агонию. А она может длиться днями, неделями, и на протяжении всего этого времени больной трясется в ужасных конвульсиях на глазах своей семьи, которая дежурит у его постели. И это считается нравственным? Или более духовным? Власти называют это «прогрессом». Но если разрешить агонию более нравственно, нежели ее прекратить, то очень скоро появится телевизионная передача, в которой вы увидите отснятую на пленку агонию. О, это будет спектакль, достойный своего имени! Кстати, в прогрессивной Швейцарии, где власти все еще ставят запрет на ходатайстве о применении смертельной микстуры, один врач как-то отснял на кинопленку агонию четырех самых терпеливых кандидатов на самоубийство: видно, как они задыхаются с заполненным гелием пластмассовым пакетом на голове. Доктор отослал ролики прокурору Цюриха — единственное средство, которое он нашел, чтобы заставить того осознать проблему. «Смотреть эти записи было невыносимо, — заявил прокурор. — Прежде чем умереть, люди очень долгое время мучаются в судорогах».
В подобном случае ни о какой морали не может быть и речи — только о благе. Совершить это благо довольно просто: достаточно прочитать то, что говорят глаза, и протянуть руку.
Фернандо с грехом пополам приспосабливался к расплате за славу — наплыву туристов летом. Один-два раза в неделю его навещала Надя, а также Кадель: «Собор — это как раз то, что надо для девушек!» — писал он мне. Благодаря религиозному произведению Фернандо, которое восхищало девушек, Каделю удавалось завоевать симпатию своих избранниц.
В июле этого же года еще один Кадель из Австралии заставил всех говорить о себе: велогонщик Кадель Эванс приехал на «Тур де Франс» с намерением победить. Но своим неудачным падением и выжидательной тактикой, провозвестницей ограниченных возможностей на высокогорье, он избавил болельщиков от расходов на прогнозы. Трофей завоевал никому не известный молодой мадридец Хуан Гонзалес, прозванный Speedy Gonzales в честь прыткой мышки из мультипликационного фильма. Об этом без стеснения сплетничали в среде журналистов, увлеченных полемикой о допинге… Гонзалес нанес фатальный удар на этапе Альпы — Дуэз, доказывая теорему сопровождающего велогонку Жан-Поля Веспини, согласно которой Тур выигрывают на Альпийском лугу. Устремив взгляд игуаны в асфальт, с гримасой боли Эванс преодолел двадцать один зигзаг, прижавшись к своей «машине», чтобы в конечном счете признать себя побежденным в Париже.
В Мадриде, куда Гонзалес вернулся осыпанным золотом героем, Надя и Кадель с дрожью от волнения устроили настоящую дуэль. Впервые за долгое время я не перемещался по маршруту велогонки. Прибытие участников в Париж и подиум на Елисейских полях в этот раз меня не взволновал. Разумеется, я всегда с увлечением следил за велогонкой «Тур де Франс» и восхищался гонщиками, но сейчас я уже сомневался в том, что требует больше мужества: проехать на велосипеде четыре тысячи километров за три недели или строить в одиночку собор на протяжении сорока лет? И почему первый подвиг сразу же получает всеобщее одобрение, а второй воспринимают как эксцентричность, буффонаду? Почему первый привлекает к себе спонсоров со всего мира, а второй — нет? Почему на протяжении столетий власти готовы тратить сотни тысяч евро, чтобы заполучить городской этап велогонки, что выливается в затраты на очень дорогую рекламу, и не признают альтернативных подвигов, которые, как мы это уже доказали, им ничего не будут стоить и тоже могут увлечь толпу? И разве все те успехи и увлечения, что генерируют такие современные достижения, как Олимпийские игры или финал Чемпионата мира по футболу, не кажутся мелкими и странными рядом со столь великим произведением искусства, как Нотр-Дам-дю-Пилар?
Меня пронизывал холод при мысли о том, что я — один из немногих, кто знает правду: великие герои, великие лидеры — это те, кто идет, а не бежит. Иисус, Ганди, тот же де Голль, если хотите… они всегда шли. Великие дела совершаются не спеша, терпеливо! Почему же этого никак не могут понять все те президенты, что в погоне за современным имиджем — полон молодости и динамики — бегут напоказ трусцой в шортах и кедах? Но у бега трусцой есть только одно значение — трястись, семенить. Неужели им невдомек, что они смешны?
И потом пришло это письмо.
На календаре середина сентября, прохладно, уже зашелестела осень. Возобновление литературной деятельности достигло апогея, хотя лежащие неподвижно на прилавках романы вызывали у меня досаду — кризис не свирепствовал разве только в мировых финансах… Я преодолел точку равновесия рукописного рычага, после чего, как известно, книга близится к завершению и работа над ней вот-вот закончится. Тогда я намеренно замедлил темп написания книги, желая насладиться каждым мгновением, каждым испытанным чувством, оттягивая минуту проведения — как это делал Фернандо в своем соборе — прямой последней линии, наименее вдохновенной. Я резвился, выводя пером слова на бумаге.
И все-таки я был счастлив оттого, что заканчиваю эту историю. Скоро узнает о ней отец, правда, я еще не решил, что лучше: предложить ему прочесть рукопись романа или подождать, пока роман выйдет в свет. И еще я принял очень важное решение: если до декабря смогу договориться с хорошим издателем с бульвара Сен-Жермен, тогда продолжу заниматься писательским делом и никогда не вернусь к работе в студии звукозаписи. Я отослал рукопись по почте, полагаясь только на весомость текста: издание по дружбе меня не интересовало, хотелось узнать правду о своих писательских способностях. Или сила моего слова — или ничего.
Уже вертелась в голове мысль о Барселоне, встрече с Надей и жизни в вихре фламенко. Да, меня такая жизнь прельщала. И я все чаще думал о ней, когда вдруг пришло письмо. Усыпанный почтовыми штампами белый квадратный конверт. Из Мехорада. Ну, конечно, это мэрия направила мне письмо, так как внутри — брошюра с фотографией собора на обложке! Боже милостивый! Глаза сощурились от недоверия. Затем удивление исчезло, и взгляд задержался на качестве иллюстрации и цветных клише внутри. Ярко-синий купол, мозаичная облицовка крипты, махровый вид красных шлакоблоков, установленных наоборот. В конце — короткая биографическая справка об архитекторе и его фотография — та самая, которую напечатали в «Эль Мундо». Невероятно… Потрясающий подарок, тайну которого Надя тщательно хранила.
Похоже, мэрия совсем недавно выпустила эту брошюру для туристов и любопытных. Текст напечатан на трех языках — английском, испанском и французском. Неужели в честь моего активного участия? Мне было приятно это сознавать. С колотящимся в груди сердцем я погрузился в чтение, дрожащими руками переворачивая страницы (волнение охватило аж до самых кончиков пальцев). Я был потрясен этим официальным признанием и в то же время говорил про себя: «Ну, надо же, как неумело люди пишут!» О соборе и впрямь рассказано холодным, ученым языком. Ох уж эти специалисты! Они не поняли, что драгоценный минерал кроется в манере изложения.
Они рассуждали о том, что очевиден «компромисс между двумя стилями: центральная часть строения и та, что относится к классическому базилику романских сооружений — при этом главная идея выражена во внутренней части посредством пересечения цилиндрических сводов в продольном и поперечном направлении…» От таких фраз хочется рвать на себе волосы. И ведь никакой связи с сюжетом! По поводу дверей не намного лучше: «У дверной коробки мелкая глубина. Прямоугольный паз, который используется для крепления створок дверей, скошен до уровня каменного выступа, довольно толстого относительно дверных косяков и плиты перекрытия. Кроме того, в ригеле и на дверном косяке видны насечки в виде ступеньки, что позволяет устанавливать ригель раструбным соединением. Этот способ известен еще со времен каролингской эпохи, но в XII веке он исчез…» И конечно же незабываемое: «Маленькая колонна второго окна на южной стене представляет собой астрагал при соприкосновении обеих капителей…»