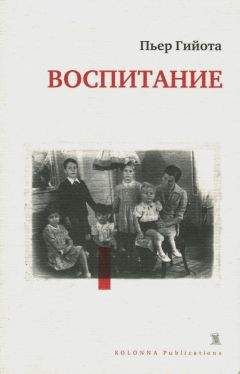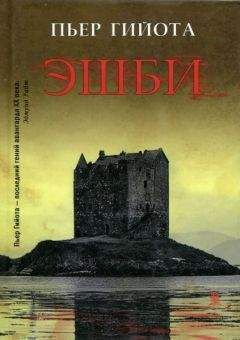Одна из первых басен Лафонтена, понятая и выученная наизусть три года назад, — «Лисица и аист»: ее объяснили и переписали в среду, я должен выучить ее наизусть в четверг, чтобы продекламировать в пятницу. В четверг мы обедаем у нашей бабки, так что нужно сделать уроки до полудня: в столовой-гостиной много народа, на улице собирается дождь, и бабка усаживает меня за кухонным столом, а поскольку память у меня скорая и твердая, прочитав басню всего три раза, я уже знаю ее назубок.
Аист вылезает из слегка покатого застекленного желоба рядом с кухней, лисица — из просвета между большим черным шкафом и стеной, и вот они оба останавливаются перед плитой и начинают безмолвный диалог, из большой стеклянной вазы между плитой и стенкой, почти под вытяжным колпаком, высыпаются цветы, ветви, аист сует туда клюв, но я иду еще дальше лисицы, дальше Лафонтена, в этой вазе с узким горлышком, куда ни тот, ни другая не могут засунуть клюв или рыло, ничего нет, я уже пообедал, но мне все равно очень хочется есть! Стихотворение становится надувательством, загнивающим дном поэзии, дном нужника.
На следующий день из моего горла доносятся лишь обрывки этой ненавистной басни, которую я потом отказываюсь записывать.
*
По окончании начальной школы я вынужден покинуть Бург-Аржанталь, где нет возможности получить среднее образование: вместо того чтобы отправить меня в сен-шамонский Коллеж Общества Марии[212], мои родители решают записать меня в Духовную школу Жуберской Богоматери, в двадцати километрах от нашего поселка.
Это наша тетка С., вдова закадычного друга нашего отца, Жана П., врача и поэта, погибающего в автокатастрофе в 1939 году, убеждает поместить меня в горный пансион, где уже учится младший ее сын, Б.
Это епархиальная школа, готовящая, между прочим, к поступлению в Лионское духовное училище, управляемая и поддерживаемая епархиальными священниками. Там проходят программу четвертого, пятого и шестого классов.
В начале сентября родители отвозят меня туда на экзамен.
Школа расположена за перевалом Республики, или перевалом Большого леса, на ярко-зеленых плоскогорьях, поросших пихтами, лиственницами, можжевельником, пересекаемых рекой Семеной, что берет исток в Большом лесу, омывает Сен-Дидье-ан-Веле, Пон-Саломон и впадает в молодую Луару у Сен-Поль-ан-Корнийона; родники, горные болота, ланды, «шира»; на близком горизонте голубая линия первых Севенн, гора Мезан (родной массив Жюля Валлеса), гора Тростниковый скирд, жерловина Сара.
За Сен-Жене-Малифо, с вершины смотровой площадки под названием Западня, мы видим школу в трехстах метрах внизу.
Построенная на маленьком голом плато, рядом с хутором Жубер, на двух трехэтажных фермочках, сожженная в 1924 году мстительным учеником, восстановленная и расширенная, школа имеет длинный фасад с тридцатью шестью окнами на трех этажах и высокими дымовыми трубами на крыше. Широкий тротуар спереди.
Напротив нее старинная ферма из тесаного гранита, по бокам которой гумно и заброшенная часовня старой школы.
Участок окаймляют хвойные деревья.
Прежде чем войти во двор: слева, на перекрестке грунтовых дорог, статуя девы Марии, попирающей змия, тоже заключенная в кольцо невысоких хвойных.
Я должен сдавать экзамен директору школы, отцу Жану-Батисту Валласу: это высокий семидесятилетний старик в черной сутане, застегнутой до самой шеи; он носит, отчасти в шутку, фиолетовую мантию каноника, у него резкие черты, крупный нос, довольно большие уши, широкий лоб; он игрив и ожидает игривости от других.
Едва открыв большую дверь, он целует руку моей матери — мы тоже целуем руки зрелых женщин — и наклоняется, дабы поцеловать меня, проводит нас в небольшую приемную — она же уютная столовая, — слева от внутренней лестницы.
Краткая беседа. Крестьянские, церковные запахи: навоз и ладан.
Он выпроваживает моих родителей, которые идут прогуляться вокруг школы, достает из застекленного шкафчика книгу и начинает диктовать мне отрывок: «Лимузенские сумерки» из романа межвоенного периода. Я должен писать в тетради, лежащей на скатерти, но эта тетрадь уже начата, я прошу у святого отца отдельный лист и начинаю писать под диктовку его очень серьезного и очень доброго голоса с веселой, вопросительной, ироничной интонацией: это описание вечера, опускающегося на террасу жилища, где сидит семья. Святой отец произносит «вечир», я пишу «вечир», но перечеркиваю «и», прошу повторить слово и перечеркиваю перечеркивание; по окончании диктанта он проверяет мою работу и показывает текст на печатной странице: там, конечно же, «вечер», и для отвода глаз я говорю, что «вечер» — недетское слово, «вечер» — это для взрослых.
В октябре начало занятий, у меня маленький узелок с вещами, наша мать вышивает на каждой номер, присвоенный школой: 41.
Внутреннее напряжение столь велико, что оно заглушает во мне страх перед грядущей действительностью: уверенность, что через три месяца я вернусь на Рождество к родным, почти отменяет настоящее, что уже становится во мне прошлым, которое я могу вызвать в памяти чуть ли не по своему желанию. Ну а пока день за днем, неделя за неделей: внимательно наблюдать за поведением других, делать по возможности то же самое, но успею ли я следовать этому движению и составляющим его жестам? В ту пору моя вера столь всеобъемлюща, что сам Христос протягивает мне руку, открывает мой рот и заставляет говорить, Он даже может забрать меня с собой, умертвив в первый же вечер, в первую же ночь.
В машине отца, который отвозит меня без матери, но с другими детьми из кантона, покидающими со смехом свои фермы, описывая вместе с ним и с ними пейзаж за окном и на пару секунд задумавшись о дохлом псе в Кондриё, я обнаруживаю, что способен теперь на этот волшебный фокус: могу исчезнуть по собственной воле: нож, яд, контакт с падалью и смертельное заражение.
Вечером, после того как все родители уезжают, а узелки с вещами расставляются по шкафчикам дортуара, святой отец собирает всех нас, тридцать восемь детей от девяти до четырнадцати лет, во внутренней часовне школы: современной, с большим изображением панорамы Севенн в глубине.
Сам он садится на стул у алтаря, поздравляет нас — низкие дети спереди, высокие сзади — с прибытием, а потом объясняет, зачем мы здесь, почему наши родители остаются без нас, а мы без них на несколько лет; он хочет воспитать наш ум, вот что его интересует, и воображение — часть ума, необходимо знать, что каждый обладает им, не нужно его бояться, а следует его развивать; прежде чем говорить, надо подумать, «семь раз отмерь — один отрежь»; здесь нам помогает в этом тишина местности, природы; в тишине глупость распознать легче, нежели в шуме.
После этой непринужденной беседы назначаются шефы: каждого новичка берет под свою опеку и защиту пансионер постарше. Выбор детям не навязывается: с одного хутора или из одного квартала, из одной или из родственной семьи, либо просто из симпатии, беседе предшествует перемена, и игра сближает некоторых детей: у меня наш друг детства, сын друга моего отца, родившийся после его смерти.
За ужином мы узнаем, причем многие со слезами, о нашем новом режиме питания: миска слегка прокисшей ячменной каши, консервированная дичь с белыми ломтиками сала, куски сыра «пор-салю»[213] величиной с костяшку домино, порция — половина столовой ложки — каштанового варенья и один ломоть черствого хлеба: это диета доктора Картона, которой придерживается отец Валлас: словом, ничего из того, что производится на соседней ферме, поставляющей продукты, видимо, лишь нашим учителям: молоко, масло, сыр, яйца, шпик, мясо, овощи и свежие фрукты.
После ужина и небольшой перемены в сгущающейся темноте, молитва на улице перед девой Марией, «Salve Regina»[214], слова и мелодию мы, новички, учим на ходу: предо мой снова этот образ непорочного зачатия, абсолютной чистоты, попирающей сексуальность: эта змеиная голова с высунутым языком, выползающая из-под нежной ножки, а сзади хвост, что извивается и твердеет от топтанья…
Кому не хочется походить на это олицетворение красоты и мира?.. И тем не менее, хотя у меня самого есть мать, я смотрю лишь на трепыхающегося демона. В деву я не верю.
Едва мы ложимся в свои железные кроватки, тридцать восемь детей в четыре ряда по девять человек, самые маленькие возле двери, у единственной уборной без сиденья и подле большого умывальника из перфорированной жести, с зажженным ночником, святой отец склоняется над каждым из нас, старыми и новенькими, касается губами дрожащей щеки и шепчет:
— Тебя целует твоя мать вместе с нашей общей Матерью.
В одно из четырех восточных окон я смотрю на луну — ту же, что видна из моей комнаты дома?
На следующий день подъем в полшестого, ежедневная месса в любое время года начинается в шесть. Мы идем туда натощак, поскольку причащаемся каждый день; еще нужно петь, выдавливая из себя молитвы на пустой желудок: я теряю сознание посреди дуэта «Gloria»[215] и падаю на скамью: меня приводят в чувство в столовой, я возвращаюсь к концу дароприношения и держусь молодцом на причастии, переваривая гостию, — я хочу, чтобы Христос пребывал во мне весь день. Как я могу снова упасть в обморок — а вдруг меня вырвет телом Христовым?