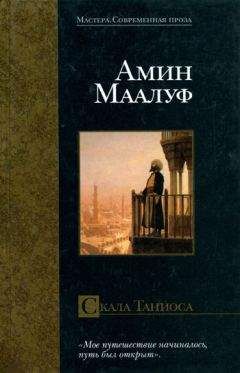Не знаю, может быть, чудо сие объясняется голоданием, ибо именно этому испытанию он себя подверг, или какой-либо иной естественной причиной. Но жители той местности увидели в этом особый знак для самого Таниоса и, вероятно, для всей округи. Было ли предзнаменование добрым или нет? Здесь мнения расходятся.
Предрасположенные к суеверию здешние обитатели не могли смириться с противоречивыми толкованиями данного явления, но я не счел эти пересуды достойными внимания.
При всем том мне помнится, что в этой области Предгорья существует некая легенда о ранней седине, с незапамятных времен эпизодически появляющейся во времена раздоров и смут, а вскоре после их окончания исчезающей. Пораженных ею людей называют «древними головами» или «безумными мудрецами». Некоторые утверждают даже, что это вновь и вновь оживает один и тот же персонаж. Впрочем, в местностях, где обитают друзы, вера в переселение душ издавна пустила крепкие корни.
Подневные записи преподобного Джереми Столтона за 1836 год I
Если верующим, когда они умрут, уготованы райские кущи, то Таниос, пережив смерть начерно, обрел в награду черновой набросок рая, так что Всевышний, по-видимому, не разгневался на него за самовольное намерение покончить счеты с жизнью. Конечно, замок шейха был просторен, но там мир был ограничен высокими стенами и лобызаниями рук. Чернильницы там стыдливо прятались, а четки выставлялись напоказ. А в пасторском доме уважение шагало в ногу со знанием. Таниос пока находился на самой низшей ступени лестницы, но чувствовал, что способен одолеть их все. До библиотеки было рукой подать, там жили книги, облаченные в драгоценную кожу, он любил раскрывать их, даже те, которые сможет понять не ранее чем через несколько лет, и слушать, как похрустывают переплеты. Настанет день, и он их все перечитает — для него это было неоспоримой истиной.
Однако новая жизнь не сводилась к этой библиотеке, кабинету преподобного, сводчатым потолкам классных комнат. На втором этаже у него отныне была своя собственная комната. До сей поры она предназначалась для заезжих гостей, сплошь англичан или американцев из Соединенных Штатов, но Столтоны тотчас со всей определенностью объяснили своему нежданному пансионеру, что теперь она принадлежит ему. Там имелась кровать. Кровать под балдахином. Таниос ни разу в жизни не спал на кровати.
В первые дни он был еще слишком ослаблен, да и соображал слишком плохо, чтобы должным образом оценить мягкость этого ложа. Однако же очень скоро он к нему привык, да так, что уже спрашивал себя, как смог бы опять улечься на пол, где постоянно опасаешься змей, а под одеялом того гляди обнаружишь скорпиона или бледную ящерку бу-браисс, чьи укусы жгутся, как огонь, а главное, кошмар здешних мест, ужас его детства, «мамашу-сорок четыре», иначе говоря, тысяченожку, о которой рассказывают, будто она забирается к спящему в ухо, чтобы потом впиться ему прямо в мозг!
В уютной комнате дома Столтонов имелись этажерка с карликовыми книжками, у стены — шкаф с замком, печь, топящаяся дровами, и застекленное окно, выходившее на цветущие клумбы преподобной пасторши.
Свою голодовку он прекратил в то самое мгновение, когда, открыв глаза, увидел, что лежит в кровати и жена пастора протягивает ему чашку. На следующий день пришла его мать, не входя в комнату, украдкой поглядела из коридора и удалилась успокоенная. Три дня спустя, когда Ламиа к хурийе снова постучались в дверь пастора, открыть им вышел сам Таниос. Первая бросилась ему на шею, покрывая своего мальчика поцелуями, вторая же потащила его в сторону, ибо все еще не желала переступить порог жилища еретиков.
— Выходит, ты сумел-таки добиться того, чего хочешь!
Юноша в ответ поболтал в воздухе руками, притворно изображая крайнее бессилие, как бы говоря: «Видишь, в каком я состоянии!»
— Когда меня принуждают, — сказала ему хурийе, — я начинаю вопить громче всех, так что все умолкают, даже буна Бутрос…
— А я, когда принуждают, понижаю голос.
Ухмылка у него была хитрющая, и его тетушка закачала головой, якобы до крайности удрученная:
— Злосчастная Ламиа, ты не сумела воспитать свое дитя! Рос бы он у меня с четырьмя старшими братцами да четырьмя младшими, небось научился бы орать, пробивать себе дорогу локтями и тянуть лапу к котелку, не заставляя себя упрашивать! Но в конце концов, он живехонек и на свой лад умеет постоять за себя, а это главное.
Парень разулыбался во весь рот, и Ламиа подумала, что сейчас самое время сказать:
— Завтра мы вернемся сюда с твоим отцом.
— С кем?
Обронив эту леденящую фразу, он повернулся и нырнул в темный коридор пасторского дома. И обе женщины удалились восвояси.
Очень скоро он возобновил свои занятия, и все ученики, когда им надо было подкатиться к пастору с какой-нибудь просьбой, отныне стали обсуждать это с ним, как будто он был «сыном в доме». Вскоре пастор поручил ему — «в силу его способностей и в качестве возмещения за предоставленное жилье и уроки», как уточняет преподобный в своем дневнике, — исполнять роль репетитора всякий раз, когда у кого-либо из учащихся обнаруживалось отставание из-за пропуска занятий или природной бестолковости. Таким образом, дошло до того, что он стал изображать школьного учителя даже перед теми из своих товарищей, что были старше его.
Совершенно очевидно, что именно желание выглядеть более зрелым, дабы лучше соответствовать своему новому предназначению, побудило его решиться отпустить бородку; быть может, ему также хотелось подобным образом подчеркнуть свою наконец-то завоеванную независимость от шейха и от всего селения. Бороденка была еще редкая, не более чем пушок, но он ее подстригал, обхаживал щеткой, подравнивал, неусыпно пекся об ее безукоризненной форме. Как будто она сделалась гнездом его души.
«И тем не менее в его чертах, во взгляде, даже в форме рук была женственная мягкость, — рассказывал мне Джебраил. — Он весь, с головы до пят, пошел в Ламию, как будто и не было у него никакого отца, одна лишь мать».
Ламиа взяла в привычку навещать его каждые пять-шесть дней, часто она заходила вместе с сестрой. Ни та, ни другая больше не осмеливались настаивать, чтобы он вместе с ними вернулся в селение. Лишь спустя несколько месяцев они попытались предпринять демарш в этом роде, но подступили на сей раз не к самому Таниосу, а прибегли к посредничеству пастора. Тот согласился урезонить его: хотя ему было очень приятно принимать у себя самого блестящего из своих учеников и лестно чувствовать с его стороны столько поистине сыновней преданности, преподобный Столтон не упускал из виду, что его миссия в этих краях будет восприниматься лучше, если Таниос помирится со своей семьей, с шейхом, с родным селением.
— Давай поговорим начистоту. Мне бы хотелось, чтобы ты навестил Кфарийабду, снова повидал отца и всех своих. Потом ты вернешься и будешь по-прежнему жить в этом доме, жить на пансионе, уже не являясь ни пансионером, ни беглецом. Таким образом, происшествие с Раадом будет наполовину забыто, и положение станет более удобным для всех.
Когда Таниос выехал на Плиты, сидя на спине у осла, у него создалось впечатление, что поселяне заговаривают с ним смущенно, с какой-то опаской, словно он восстал из могилы. И все притворялись, будто не замечают его седой головы.
Он склонился над источником, зачерпнув сложенными ладонями, испил воды, такой холодной, и ни один зевака не подошел к нему. Потом он один зашагал вверх по дороге к замку, таща своего осла за повод.
Ламиа ждала его на крыльце, чтобы отвести к Гериосу, она умоляла быть с ним поласковее и почтительно поцеловать ему руку. Мучительный миг, ибо управитель был явным образом пьян, притом весьма. От него разило араком, и Таниос подумал, что, если так пойдет дальше, неизвестно, долго ли шейх станет терпеть его на своей службе. Спиртное не придало ему болтливости, он не сказал блудному сыну почти ничего. Он казался больше, чем когда-либо, погруженным в себя, тонущим, бьющимся на собственном дне. Во все время их долгой молчаливой встречи юношу душило чувство вины, заставившее сожалеть обо всем — и о своем возвращении, и об уходе… а может статься, даже о том, что вновь согласился принимать пищу.
Вышло тяжко, но то был единственный груз, еще тяготивший душу. Раада в селении не оказалось, он то ли отправился на охоту, то ли гостил у деда с бабкой, Таниос не стремился это выяснить, он был слишком рад тому, что избежал встречи. Ему только сообщили, что между господином и его наследником случаются весьма бурные сцены и последний даже подумывает потребовать раздела поместья, коль скоро обычай подобное допускает.
Затем Ламиа настояла на том, чтобы отвести своего сына к шейху. Тот подхватил его на руки, как ребенка, прижал к груди, потом стал разглядывать. Казалось, он растроган встречей, но удержаться все-таки не смог, сказал: