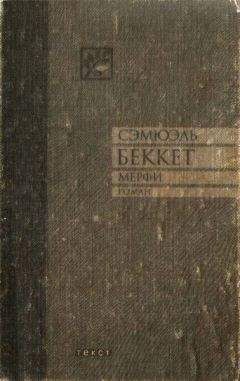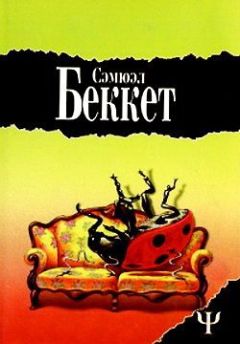— Придя сюда, я делаю тебе одолжение, — сказал Мерфи, — и все еще готов его сделать, но без камина — нет.
Он пустился рассуждать о трубах и проводах. Не в том ли и состояла вся прелесть труб и проводов, что их можно тянуть и тянуть? Не была ли их главной чертой та легкость, с которой их можно было тянуть дальше? Какой вообще смысл связываться с трубами и проводами, если ты в случае необходимости не можешь без зазрения совести протянуть их дальше? Разве они не вопиют о продлении? Тиклпенни думал, он никогда не остановится, лихорадочно повторяя одно и то же на множество слегка различных ладов.
— Поглядел бы ты на мой камин, — сказал Тиклпенни.
Это взбесило Мерфи. Неужели он после стольких лет, как раз когда, казалось, умерла всякая надежда, нашел чердак, чердак, который действительно не был мансардой, и крыша его не была мансардной, только затем, чтобы сразу же снова потерять из-за нехватки нескольких ярдов труб или проводов? Он покрылся потом, вся желтизна сошла с его лица, сердце его стучало, чердак плыл у него перед глазами, он не мог говорить. Когда же смог, он сказал новым для Тиклпенни голосом:
— Сделай так, чтобы до ночи на чердаке был камин, иначе…
Он прервался, потому что не мог продолжать. Это был чистой воды апозеопезис. Тиклпенни добавил несколько версий отсутствующего продолжения, одна мучительнее другой, ужасающих, если взять их все вместе. Указание Сука относительно молчания Мерфи как одного из его высших достоинств не могло получить более разительного подтверждения.
Это кажется странным, но ни один из них не подумал о керосинке, скажем, о маленькой, типа «Доблестное совершенство». Бим вряд ли бы стал возражать, и тогда обошлось бы без всякой возни с трубами и проводами. Факт остается фактом — в то время мысль о керосинке ни одному из них не пришла, хотя и пришла Тиклпенни много времени спустя.
— А теперь в палаты, — сказал Тиклпенни.
— Ты, случаем, уразумел, — сказал Мерфи, — что я сказал?
— Я сделаю все, что смогу, — сказал Тиклпенни.
— Мне безразлично, — сказал Мерфи, — останусь я здесь или уйду.
Он ошибался.
По пути в корпус Скиннера они прошли мимо маленького изящного здания из потускневшего кирпича с передним двориком, где раскинулась лужайка с цветами; его фасад утопал в зелени, увитый виноградовником и ломоносом.
— Это детское отделение? — сказал Мерфи.
— Нет, — сказал Тиклпенни, — покойницкое.
Корпус Скиннера был длинным, серым двухэтажным зданием, расширявшимся с обоих концов, подобно двойным скобкам. Женщины все были загнаны на западную, мужчины — на восточную сторону, в силу чего он назывался смешанным, в отличие от двух корпусов для выздоравливающих, которые вполне обоснованно не были смешанными. Подобным же образом некоторые общественные бани называются смешанными, хотя моются там отдельно.
Корпус Скиннера был тем же кокпитом — ареной борьбы ППММ, и здесь, как только представлялась возможность, разгоралась яростная битва между взглядами психа и психиатра. Пациенты выходили из корпуса Скиннера или в лучшем состоянии, или мертвыми, или хрониками, направляясь соответственно в корпус для выздоравливающих, или в морг, или же за ворота.
Они поднялись прямо на второй этаж, и Мерфи был представлен на обозрение медбрату, мистеру Тимоти («Бому») Клинчу, младшему брату-близнецу Бима, с которым они были похожи как две капли воды. Бом, подготовленный Бимом, ничего не ждал от Мерфи, Мерфи же, ex hypothesi[64], — ничего от Бома, в результате чего ни один не был разочарован.
Под началом Бима Клинча служило не меньше семи родственников мужского пола, по прямой и побочной линии, самым значительным из которых был Бом, а самым незначительным, пожалуй, престарелый дядюшка Бам из перевязочной, а также старшая сестра, две племянницы и чей-то внебрачный ребенок на женской половине. В покровительстве Бима родне не было ничего старомодного, никакого зазрения совести — на юге Англии не было более решительного и более преуспевающего радетеля семьи, и даже на юге Ирландии некоторые могли бы у него поучиться не без пользы для себя.
— Сюда, — сказал Бом.
Палаты примыкали к двум длинным коридорам, образующим при пересечении букву Т, или, точнее, обезглавленный крест, три оконечности которого расширялись, точно перекладины костыля, образуя просторные помещения, в которых размещались читальный зал, зал для письменных работ и зал отдыха, или «развалины», которые более остроумным служителям милосердия были известны под названием «сублиматорий». Здесь пациентов поощряли играть на бильярде, в «дротики», в пинг-понг, на пианино и в другие менее утомительные игры или же просто торчать поблизости, не делая ничего. Подавляющее большинство предпочитало просто торчать поблизости, не делая ничего.
Если на один миг принять ради удобства в качестве чисто описательного приема термины и ориентацию церковной архитектуры, расположение палат соответствовало нефу с трансептами, где к востоку от их пересечения не было ничего. Здесь не было незапертых палат, в обычном смысле слова, но комнаты-одиночки, или, как говорили некоторые, камеры, или, как говорил Босуэлл, обители, открывающиеся к югу от нефа и к востоку и западу от трансептов. К северу от нефа располагались кухни, трапезная пациентов, трапезная медперсонала, склад лекарств, уборная пациентов, уборная медперсонала, уборная для посетителей и т. д. Лежачие больные, а также более сложные случаи содержались вместе, по мере возможности в южном трансепте, откуда открывались камеры с мягкой обивкой, слывшие у остряков «тихими комнатами», «резиновыми комнатами», или, в примечательном сокращении, «тюфяками». Во всех помещениях было несусветно натоплено, и все провоняло паральдегидом и результатами расслабления запирательных мышц.
Когда Мерфи, следуя за Бомом, обходил палаты, пациентов было не так много. Одни находились на утренней службе, другие в саду, кто-то не мог встать, кто-то не желал, кто-то просто не встал. Но те, которых он таки увидел, отнюдь не были ужасающими чудовищами, каких можно было себе вообразить по рассказу Тиклпенни. Неподвижные и задумчивые меланхолики, сидевшие обхватив руками голову или живот, в зависимости от типа болезни. Параноики, лихорадочно испещрявшие листы бумаги жалобами на плохое обращение или записанными слово в слово отчетами о сообщениях их внутренних голосов. Гебефреник, исступленно бренчащий на фортепиано. Гипоманьяк, обучающий потреблению пойла синдром Корсакова. Истощенный шизофреник, окаменевший в позе падения, словно приговоренный навечно изображать tableau vivant[65], левая рука с погасшей, наполовину выкуренной сигаретой вытянута в напыщенном жесте, правая, трясущаяся и жестко-неподвижная, указует вверх.
Они не вызвали у Мерфи никакого ужаса. Наиболее легко среди его непосредственных чувств распознавались уважение и ощущение собственного ничтожества. За исключением маньяка, подобного олицетворению всех поклонников богатства, добившихся успеха собственными силами, восторжествовав над пустыми карманами и чистыми руками, у него создалось впечатление погруженности в себя, отрешенности и безразличия к неожиданностям неожиданного мира, которые он избрал для себя как единственное счастье и достигал так редко.
Поскольку обход завершился и все указания Бима были подкреплены примерами, Бом направился назад, к месту пересечения и сказал:
— На сейчас все. Явитесь в восемь утра.
Перед тем как открыть дверь, он ожидал благодарностей. Тиклпенни подтолкнул Мерфи.
— Миллион благодарностей, — сказал Мерфи.
— Не благодарите меня, — сказал Бом. — Вопросы есть?
Мерфи знал, что к чему, но сделал вид, будто что-то решает про себя.
— Он хотел бы приступить немедленно, — сказал Тиклпенни.
— Это дело решать мистеру Тому, — сказал мистер Тим.
— О, с мистером Томом все улажено, — сказал Тиклпенни.
— Согласно моим инструкциям, он заступает только утром, — сказал Бом.
Тиклпенни подтолкнул Мерфи, на этот раз без надобности. Ибо Мерфи горел от нетерпения проверить свое поразительное впечатление, что здесь находится та порода людей, которую он давно отчаялся найти. Ему также было желательно, чтобы Тиклпенни на свободе занялся устройством камина. Он сыграл бы и без подсказки суфлера.
— Я знаю, конечно, что мой месяц будет отсчитываться только с завтрашнего дня, — сказал он, — но мистер Клинч любезнейшим образом не возражал против того, чтобы, если мне так хочется, я начал немедленно.
— И вам хочется? — сказал с большим недоверием Бом, видевший второй толчок.
— Он хочет… — сказал Тиклпенни.
— А ты, — сказал Бом с внезапной яростью, от которой у Мерфи сердце подпрыгнуло, — ты закрой свое чертово поддувало, знаем мы, чего ты хочешь. — Он упомянул одну-две вещи, которых Тиклпенни хотелось больше всего. Тиклпенни утер лицо. Тиклпенни было известно два рода выговоров: те, после которых ему было необходимо утереть лицо, и те, после которых этого не требовалось. Никаких иных способов дифференциации он не применял.