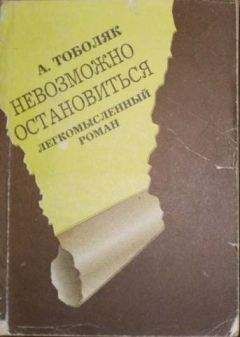Заказ сделан, и я признаюсь Илюше, что недавно всерьез примерялся к веревочной петле. Я ничего нового не жду от жизни, Илья, ничего нового не будет, лишь повторение старого, как в занудной школьной программе! Илюша сильно огорчается. Смотрит на меня скорбно и осуждающе. Если я это сделаю, то он со мной бесповоротно рассорится и раззнакомится. Хотя его такие мысли тоже посещают.
Я вспоминаю свое завещание. Звучит оно приблизительно так. «Тем, кого люблю. В здравом уме и твердой памяти приговорил себя». Вот так: коротко и ясно. Илья долго молчит, Уничтожил, спрашивает, или сохранил в архиве? Сжег. Правильно, одобряет Илюша. Гонорары за такие произведения все равно не платят. А как написал — одним махом или с мучительной многовариантностью? На одном дыхании, Илюша. Это хорошо, говорит он, что по-графомански. Профессионализм в таких случаях ни к чему. Он обязывает к опубликованию. А вообще-то интересно было бы (но никому не приходит в голову) издать книжку избранных предсмертных записок известных и неизвестных людей. Наверняка ей обеспечен бешеный спрос. Надо подсказать нашим издателям, Но хватит о смерти! Посмотри на буфетчицу, Юраша. Смазливая, а?
Очень хорошенькая, соглашаюсь я. А когда мы пришли сюда, то была безобразной. Как это понять? На нее, видимо, благотворно действуют наши заказы. Если взять еще по пятьдесят… или по сто, чтобы не мелочиться, то она вообще станет «мисс Вселенная». Надо поспособствовать девушке. Еще две котлетки, пожалуйста, и приложение к ним. Спасибо. Вы нам очень нравитесь. Вы поразительно красивая девушка, включите, пожалуйста, погромче радио, мы хотим послушать новости. Плохие новости. Нам они не нравятся. Девушка, вырубите, пожалуйста, радио, а то мы трезвеем от таких новостей. Я не могу представить, к чему мы идем и к чему придем! Я тоже, блядь буду, не вижу светлой перспективы для демократии. Эти долбаные коммуняки, легальные и нелегальные, они же, как клопы, как клещи, неистребимы. Вот клещ. Говорят, ему хватает для годовой жизнедеятельности капли животной крови. Переносит жестокие морозы, да что морозы — чуть ли не любые катаклизмы. А вот коммуняка долбаный — его достойный братец. Он также притаился и ждет своего часа. Клещи не все энцефалитные, а коммуняки, особенно те, что уже попили человеческой крови и вошли во вкус, стопроцентно опасны. А сколько в стране бедных, невежественных, замордованных жителей, кто в обмен на элементарную жратву готов стать их донором — сколько? Подсчитать невозможно, но оч-чень много. И не в этом даже дело, не в этом, а в том, что в массе своей народ, хлебнув воли, отрыгивает ее, а то и выблевывает, как что-то совершенно непитательное, не усваиваемое организмом. Так? Так. Хорошо, девушка, будем говорить потише, хотя, девушка, мы всю нашу жизнь говорили в треть голоса, нам это обрыдло, и не надо вам, девушка, заниматься буфетным тоталитаризмом, если хотите оставаться в наших глазах по-девичьи красивой… Вот пример — эта девица. Демократия для нее благо или чумная напасть? Трудно ответить, не узнав ее поближе, не лишив — познания ради — верхней и нижней одежды. Но ясно, что она в любую минуту может непредсказуемо озвереть, так ведь? Да, но в единичном случае это не опасно. Иное дело массовое остервенение. А оно нарастает неуправляемо, как своего рода протест против демократии. Не знаю, как ты, а я вижу ясные предпосылки глобального одичания. Мы скоро забудем грамоту, потеряем речь, котлетки будут делать из человечины. На этой волне грядут новые вожди с помраченным умом, правильно говорю? Как считаете, девушка?
— Хватит вам тут сидеть, болтать! Уходите, а то администрацию вызову.
Кажется, мы ошиблись в этой девушке. Она хоть и юная, но страшная, как смертный трех. Это бы ладно. Но к тому же еще агрессивная с утра. Не хочется мне жить рядом с такой девушкой, а тебе, Илюша? Илюша вспоминает, что его ждет Антон Павлович.
Стоя под портретом молодого Антона Павловича, я звоню в писательскую организацию. (Есть у нас такая.) А в этой организации есть уполномоченный по литературному фонду, престарелый поэт Никодимов Петр Петрович. Вот он-то мне и отвечает, с ним-то я и разговариваю посредством телефона. Петрович, говорю, так, мол, и так, надо мне путевку на ближайшее время в Дом творчества, чтобы я мог вплотную поработать над своей эпопеей о Марусеньке. Желательно в Малеевку или Переделкино. Выслушав меня, Никодимов скрипит, что, во-первых, подошел срок возврата взятой мной ссуды (забыл!), во-вторых, у меня язык с утра заплетается (какой тонкий поэтический слух, а ведь уже ветеран!), в-третьих, он сам такие вопросы не решает и будет запрашивать Москву, в-четвертых, мне уже дважды звонила какая-то баба (Петрович по-окопному грубоват), вот ее телефон. И он называет домашний номер Медведевых.
Удовлетворенный беседой, я закуриваю и говорю Илюше, который, сидя в своем директорском кресле, сосредоточенно перебирает бумаги с грифом Чеховского фонда:
— По-моему, Петрович нечуткий человек. Он даже не обрадовался, что я захотел отдохнуть в Доме творчества. Его надо переизбрать.
Илюша согласно кивает.
— Помнишь Медведева? — спрашиваю я. — Как-то знакомил тебя с ним.
Илюша кивает.
— Разводится с женой. То есть намерен развестись.
— С Богом! — говорит Илюша, не отрываясь от бумаг.
— Да, но я в трудном положении, в роли третейского судьи. И он, и она ищут у меня помощи. Как быть?
— Самоустранись, — коротко отвечает работающий Илья.
— А по-дружески ли это? — сомневается порядочный человек Теодоров.
Илья поднимает на меня задумчивые глаза. Однажды, в давние годы, ему тоже пришлось выступить посредником. Он женил, а если угодно, свел одного своего приятеля и одну свою знакомую. Каждый из них поодиночке этого хотел. Но когда они объединились и пожили совместно некоторое время, то возненавидели не только друг друга, но и его, доброхота, за оказанную услугу. Мораль ясна?
— Да. Но тебе надо было всего лишь свести. Задача определенная и простая. А я даже не знаю, что для них лучше — жаться или ничего не менять. Все у них очень сложно. Тем более, говорит Илья. Если я влезу со своими советами, и эти советы будут приняты, то Медведевы до конца своей жизни ни в чем не смогут разобраться. А на смертном ложе они будут честить и проклинать Теодорова.
— Тебе полезно пить коньяк по утрам, — хвалю я Илюшу и набираю номер Медведевых.
Пока идут гудки, соображаю, что бы сказать такое утешительно-нейтральное несчастной, неталантливой Нине, на месте которой Иван, по всей вероятности, видит какую-нибудь Кюри-Складовскую. Слышу женский голос и бодро говорю:
— Здравствуй, Ниночка, дорогая! Я…
— Юра, это ты?
— Ну, конечно, кто же еще? Ты меня искала?
— Да, я звонила, искала! Но это не Нина, Юра, это Жанна.
— Жанночка, родная! — восклицаю я. — А почему, собственно…
— Юра, Юра, погоди! — кричит она. — Юра, ты же ничего не знаешь. Юра! — И я слегка отодвигаю трубку от уха: что за черт! — Ваня умер, Юра! — завершает она.
— Что-о?! — не понимаю я.
— Умер Иван, — надрывно повторяет Жанна.
Илья вскидывает голову: он, кажется, тоже услышал. А я все еще не понимаю и не верю. Или не хочу понимать и верить.
— Что ты говоришь, Жанна? Что за бред? — произношу побелевшим от страха голосом. (Бывает, оказывается, и такой.)
— Это правда, Юра, — говорит Жанна. — Сегодня ночью. Под утро. Сердечный приступ, Юра. Он уже в морге. Мы тут помогаем. Ты приедешь?
Теперь я все понимаю и всему верю, а хватает меня лишь на то, чтобы сказать:
— Да… конечно… сейчас…
Вот так, Малек, получается. Он в «скорой» хрипел, а я храпел в вытрезвителе. Меня добудились — видишь, живой! — а Толстяка нашего поднять не смогли. Дальше. Слушай дальше! Потом я пил коньяк в «Саппоро», а он уже лежал в морге. Помнишь, я рассказывал, как мастерил для себя петлю? А Ваня в это время, наверно, принимал лекарства. Он оберегал свое здоровье, всем известно. И что же, Малек? Я здесь, а он где? Где он сейчас, вот что я хочу знать. Не в могиле же, куда мы его уложили. Это слишком просто. Это для первоклассников. Помнишь, у Оруэлла: неугодных людей распыляли. Но и это тоже только физическая смерть. Никуда мы не исчезаем, Малек. Иван за нами наблюдает, я чувствую. Мы еще встретимся, побеседуем. Но я не о том! Я о справедливости. Почему именно он, а не я? Потому что жизнь — сука. У нее нет никаких привязанностей, принципов, никакой любви, Малек. Творит, сука, все, что пожелает, как вокзальная шлюха. Липнет к таким, как я, а Иван ей, видишь, не пондравился! Как ее понять? За что ее ценить, Малек?
Тише, Теодор. Иван давно и серьезно болел, ты же знаешь. А эти нелады с Ниной…
Да, можно и так! Ты же врач. Сердечный приступ, обширный инфаркт. Но это следствие. А причина в том, что эта паскудина… я не о Нине, я о жизни… до комичного нелепа и безрассудна. Ты задумывался… погоди!.. ты задумывался, почему в домах, где траур, занавешивают зеркала? Мы просто боимся прочитать в них бессмысленный текст нашей жизни… вот именно!