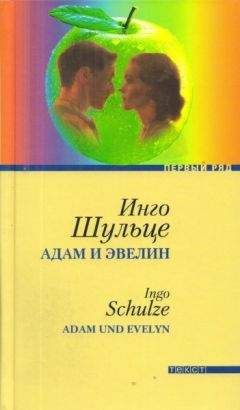— Этому дому уже точно больше двухсот лет, — сказала Пепи, когда они дошли до него.
Человек десять стояло в ожидании, когда на другой стороне улицы откроется веранда ресторана.
— Здесь мы посидим на обратном пути, — сказал Михаэль. — Должен же я вас хоть один раз в ресторан пригласить.
Дальше начинался лес. По каменистым тропкам они шли гуськом, Пепи с рюкзаком — впереди, за ней — Эвелин, позади всех — Михаэль.
Минут через пятнадцать подъем прекратился, тропинка здесь пролегала между верхними террасами виноградников.
— Они уже урожай собирают? — поинтересовался Михаэль.
До них доносились голоса и звук винограда, сыплющегося в пластмассовые ведра.
— Это цвайгельт, ранний сорт, — сказала Пепи.
Узнав Пепи, хозяин виноградника срезал несколько кисточек, и по одной, зажимая их между большим и указательным пальцами, начал протягивать через забор, где немцы уже подставляли ладони. Мелкого, сладкого винограда им хватило на весь оставшийся путь.
Стоял теплый, словно еще августовский день. По озеру и бухте, открывавшимся их взорам, курсировали яхты, на обочине дороги валялись перезрелые сливы, над которыми жужжали пчелы. Дойдя до узкой каменной лестницы, они поднялись наверх и присели отдохнуть на высеченной в скале скамье, дышавшей влажной прохладой. Когда они дошли до самого верха, осталось совсем недалеко до креста, каменного распятия 1857 года, с медным Иисусом, раскрашенным так, что в глаза бросались в первую очередь капли крови. Недалеко от этого места на земле около урны скопилась куча мусора.
Они сели на камни под крестом, в двух-трех метрах от края обрыва. Противоположный, южный берег Балатона был равнинным, если не считать двух холмов, видневшихся напротив. Солнце отражалось в воде, на которой тени от облаков вырисовывались ярче, чем на суше. Казалось, они совершенно не двигались. Виноградники под ними напоминали заштрихованную поверхность, по дыму угадывалось несколько костров. Почти на одном уровне с ними в воздухе завис жаворонок.
Термос с чаем пошел по кругу, Пепи раздавала завернутые в бумагу двойные бутерброды. Адам разложил мокрую от пота рубашку на теплом камне и сделал несколько фотографий.
— А внизу закажем сома на гриле с винным соусом и чесноком, — сказал Михаэль.
— Ты завтра уезжаешь? — спросила Катя.
Михаэль кивнул и положил себе в рот кусочек яблока.
— Я думала, ты нас подождешь.
— Я бы с удовольствием, но не получается.
— Они тебя обманули, они от нас просто отвязаться хотели.
— Вот увидишь, это не сказки.
— Я так больше не могу, — сказала Катя. — А ты не спрячешь меня у себя в багажнике?
— У него нет багажника.
— Тогда под пледами и сумками, так тоже получится. Они больше не проверяют. А даже если и проверят, они нас пропустят.
— Поверь, еще пару дней, и все.
— Но ты же ничем не рискуешь, — сказала Катя.
— И как ты себе это представляешь? Мне сказать, что я не заметил, как ты забралась ко мне в машину?
— Например.
— Вы не могли бы о чем-нибудь другом поговорить? — сказал Адам. — Лучше, чем здесь, вам все равно нигде не будет.
Он пошел вместе с Пепи наверх, к мемориальному кресту.
Раздался гудок, похожий на завывание сирены, а после показался приближавшийся к Бадачони поезд. Мерный стук колес замедлялся. Когда поезд остановился, с вокзала донеслись звуки громкоговорителя.
Адам провел рукой по подножию креста, на котором были выбиты или процарапаны имена и годы. Чем более ранним был год, тем тщательнее были сделаны надписи.
— Пепи, — сказал Адам и показал на одно имя, которое было выбито над двумя образующими полукруг лавровыми ветвями. — Габор Киш, тысяча восемьсот восемьдесят девять. А здесь — еще одна надпись восемьдесят девятого года, Йожеф Бодо. Мы могли бы попросить кого-нибудь выбить здесь наши имена, тогда через сто лет людям тоже будет чему подивиться.
— Да, — сказала Пепи и кивнула. — Для этого нам надо будет ночью прийти. Я знаю одного человека, который может сделать такую надпись.
— Хм-м, — протянул Адам и тоже кивнул.
Они пошли обратно к остальным, он снова надел рубашку.
Пепи повела их дальше, на возвышение, с которого открывался вид на островерхие холмы вдалеке, рассказала о римлянах, в честь которых названа улица Роман, и объяснила, что магматические породы хорошо подходят для виноделия. В остальном говорили мало. Михаэль то и дело клал Эвелин руку на плечо, но на все, что он говорил, она отвечала односложно, а тропинка все время принуждала их идти друг за другом. Пепи держалась рядом с Адамом. На последнем отрезке пути Эвелин шла между Катей и Пепи, мужчины же поспешили вперед в надежде занять столик на веранде.
После обеда они спустились вниз, к озеру, позагорали и выпили кофе. В воду пошла одна Катя. Она заплыла так далеко, что Пепи уже собиралась вызывать спасателей.
Вечером, около семи, они сидели за накрытым столом и ждали, когда выйдут старшие Ангьяли.
— Хороший день сегодня был, — сказала Эвелин.
Почти в тот же самый момент из дома послышались крики госпожи Ангьяль, она махала руками из-под пластмассовых полосок занавески, приглашая скорее зайти внутрь. Она была в блузке, которую для нее сшил Адам.
— Сюда, идите сюда!
Катя, Эвелин и Михаэль бросились к телевизору. Адам налил себе еще вина. Он встал, держа бокал в руке. Но вместо того чтобы зайти в дом, остановился около маленького вольера и начал рассматривать черепаху, улегшуюся в плоскую миску с водой.
— Адам, — сказала Пепи.
Из дома доносился голос госпожи Ангьяль, она переводила.
— Кажется, свершилось, — сказала Пепи.
Она тоже вздрогнула от испуга, когда Катя и Михаэль вдруг громко закричали.
— Что ты говоришь? — спросил Адам, поставил бокал обратно на стол и вытер мокрую руку о брюки.
На площадке перед домом Адам и господин Ангьяль сложили ветви, сучья и палки. Адам попросил у Михаэля зажигалку и разжег костер при помощи смоченной в спирте тряпки. Вокруг на стульях сидели Ангьяли и их гости.
— Для него это победа, хотя он терпеть не может Дьюлу Хорна, для него это почти так же важно, как похороны Имре Надя в июне, — переводила Пепи.
— В пятьдесят шестом ему было девятнадцать, он во всем участвовал, — сказала госпожа Ангьяль, — во всем участвовал.
— И что, он с тех пор правда ни разу не ездил в Будапешт? — спросила Катя.
— Нет. Мы два раза были в аэропорту. Но теперь, теперь обязательно поедем, теперь ему нужно съездить.
— В Будапеште, куда ни посмотри, почти на каждом доме следы от пуль. Или они просто заштукатурены, — сказала Пепи.
— За героев пятьдесят шестого! — сказал Михаэль, поднял свой бокал и кивнул господину Ангьялю.
— Если бы я здесь жил, — сказал Адам, который держал над костром картофелину на прутике, — меня бы тоже силком было в Будапешт не затащить.
— Не говорите так, господин Адам. Для него Будапешт был всем: там были друзья, семья, девушки, кафе, театры, кинотеатры, купальни. Отказаться от всего этого… Будапешт был самым красивым городом на свете.
— Я восхищаюсь папой, его принципиальностью, он хотел поступать в вуз, но не пошел учиться.
— А почему он не уехал на Запад? Это ведь было возможно, разве нет? — спросила Катя.
— Этого, к сожалению, никто не понимает. Конечно, когда это говорю я, его жена, это звучит странно, ведь в конце концов иначе я бы Андраша не встретила. Разве обратил бы он в Будапеште внимание на такую женщину, как я?
— Ах, мама, вы бы везде друг друга нашли. Не надо так говорить.
— В Будапеште были совсем, совсем другие женщины.
— Папиного лучшего друга так тяжело ранили, что ему ампутировали обе ноги. Он после этого застрелился. Поэтому меня зовут Йозефа, то есть Жозефина, — сказала Пепи.
— Он пугал меня своей принципиальностью. Я с этим раньше не сталкивалась. Мне было семнадцать, когда родилась Пепи. Чему он здесь научился — пальцами щелкать да вино пить, вот чему он научился!
— Папа говорит, что их все предали, все предали.
Господин Ангьяль продолжал говорить. Его голос звучал так нетвердо, что казалось, он вот-вот закашляется.
— Они думали, хотя бы американцы, хоть они помогут. А они даже оружия не прислали. Один его друг — он в Швейцарии учился, в интернате, там сплошь дети дипломатов были — с самого начала говорил, что никто не решится помогать венграм.
Господин Ангьяль встал и нетвердым шагом зашел за дом.
— Пусть, мама, оставь его.
— С ним так тяжело. Не надо было об этом заговаривать.
— Он сам об этом заговорил. Не делай такое лицо, он почти ничего не пил.
— Простите, пожалуйста, мы никогда не говорим на эту тему. Мой муж до сих пор считает, что свобода Европы невозможна без освобождения Венгрии.