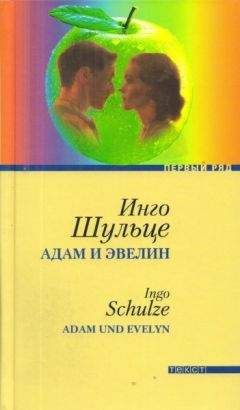— Простите, пожалуйста, мы никогда не говорим на эту тему. Мой муж до сих пор считает, что свобода Европы невозможна без освобождения Венгрии.
— Это не папины слова, это сказал Лайош Кошут.
— Как там, в стихотворении? — спросила госпожа Ангьяль. — «Оставили венгерца, оставили…»
— «И одного оставили, бежав, венгерца, — трусы, все ослабли»[1]. Папа даже был членом Клуба Петефи.
— Какого клуба? — спросила Катя.
Все обернулись на господина Ангьяля. Левой рукой он что-то прижимал к себе, а в правой держал журнал. Он передал его Эвелин. С обложки январского выпуска журнала «Тайм» за 1957 год пристально смотрел молодой мужчина интеллектуального вида, со слегка наклоненной головой, с карабином в руке, не столько обхватывающий ствол, сколько едва касающийся его пальцами. «Венгерский борец за свободу», — было написано под рисунком, в правом верхнем углу была нарисована ленточка с надписью «Человек года».
Господин Ангьяль остановился. Он развернул кусок материи и двумя руками держал его перед собой. Один угол был подпален.
— Это флаг? — спросил Михаэль.
— Папа его спас. Если бы они его у нас нашли…
— Как начнешь вспоминать… — Госпожа Ангьяль махнула рукой. — Это был обыск, настоящий обыск!
— Что? Мне вы об этом никогда не рассказывали!
— Ты тогда только родилась. Он был в подвале, ох, как подумаешь, но они не заметили люка в подвал, они все время ходили взад-вперед, взад-вперед. Он поджег флаг, тот не загорелся. Он облил его спиртом, но в тот момент они уже ушли. Я стирала флаг, стирала, но запах не уходит, ничего не поделаешь. Двадцать лет прошло, а он все еще пахнет.
— А если бы у него нашли этот флаг?
— Тюрьма как минимум.
— Он хотел сжечь его, чтобы спасти, — сказал Адам.
— То есть? — удивился Михаэль.
— Ну уж лучше сжечь, чем он попал бы в чужие руки. Нет лучшего доказательства любви.
— Это что? — спросила Эвелин. — Какие это реки?
— Это наш герб Кошута, — тихо прошептала госпожа Ангьяль. — Четыре реки и три горы.
Еще тише она сказала что-то своему мужу. Но он не удостоил ее даже взгляда. Когда Пепи попыталась ласково заговорить с ним, он ответил коротко и резко. При этом очки его сползли со лба на нос.
— Папа хочет водрузить этот флаг, когда-нибудь он его поднимет, чтобы все видели.
— Да кто его здесь увидит? Соседи? Он выпил, опять много выпил.
— Мой отец родился в тридцать третьем, — сказал Адам. — В сорок пятом они были еще слишком молоды для того, чтобы принимать во всем участие, но уже достаточно большими, чтобы понимать, что происходит. Из них никто не уехал на Запад и никто не вступил в партию. Этого тоже никто никогда не понимал.
Господин Ангьяль сложил флаг, подержал его в руках и затем поцеловал. Он сел на свой стул, положив флаг на колени, вновь поднял очки на лоб и потянулся к бокалу.
— Я их все больше и больше понимаю, — сказал Адам. — Они не верили ничьим обещаниям. Те из них, у кого был сильный характер, сохраняли дистанцию по отношению ко всем. — Он потрогал картофелину и попытался счистить с нее черную кожуру.
— Я, может быть, потому этого не понимаю, что это звучит так грустно, так безнадежно, будто жизнь кончилась, не успев начаться. Надо же хотя бы попробовать, — сказала Катя.
— Что ты собираешься пробовать, ты вообще о чем? — спросил Адам.
После небольшой паузы, во время которой все посмотрели на Катю, она сказала:
— Ну, быть счастливой, уехать куда-нибудь, где все получится, где можно будет жить нормальной жизнью. Я бы постоянно пыталась, все время, или выбросилась бы из окна.
— Не бывает только «или — или», — сказал Адам, не отводя взгляда от картофелины. — Ты же не будешь говорить, что вот это все здесь ничего не значит. И к тому же достаточно уже того, что такие люди, как Андраш или как мои родители, не продались, что их невозможно было ничем подкупить. Об этом нужно знать и помнить.
— Настоящий философ наш Адам! — сказала госпожа Ангьяль.
— Я же не против этого, Адам. Кто я такая, — сказала Катя. — Просто я чувствую, что как раз этого я не хочу. Мне еще никогда так сильно не хотелось уехать, как сейчас. Я бы с удовольствием взяла бы и побежала прямо сейчас.
— Для вас это наверняка самое правильное, — сказала Пепи.
— По крайней мере, для Кати это лучше всего, — констатировал Адам.
— Папа, а можешь щелкнуть, пожалуйста!
Пепи повторила свою просьбу по-венгерски.
Госпожа Ангьяль покачала головой. Вдруг господин Ангьяль поднял руку, и раздался треск, такой сухой и громкий, словно у него были деревянные пальцы.
— Еще раз, — воскликнула Пепи и вжала голову в плечи.
Но господин Ангьяль уже опять потянулся к своему бокалу.
— Счастливого пути, — сказал он по-немецки и чокнулся с Эвелин, а затем с Катей.
Все, кроме Адама, который перекидывал горячую картофелину с ладони на ладонь, подняли бокалы. У Эвелин опять не оказалось вина. Но она все равно поднесла бокал ко рту и сделала вид, что пьет.
— Ничего себе, ты думаешь, я сейчас смогу заснуть!
— Но в таком состоянии!
— Я могу вести машину в любом состоянии, можешь мне поверить, в любом. Ты боишься?
— Я бы предложила так не гнать. К тому же дует очень сильно.
— Она еще пожалеет! Я знаю, что пожалеет! Она напилась, просто напилась.
— Мы все хлебнули лишнего…
— Я имею в виду ночью, ночью она была в стельку пьяная. Тараторила, как сумасшедшая, правда, все время одно и то же, как будто умом повредилась.
Катя закурила сигарету и протянула ее Михаэлю. Поскольку стекло было разбито, она надела на себя его свитер и ветровку и обмотала голову футболкой.
— Поворачивай обратно, правда поворачивай. Я как-нибудь сама.
— Я не могу, это невозможно!
Михаэль так сильно ударил по рулю, что машина вильнула.
— Ты что, с ума сошел! — воскликнула Катя.
— Да как же вы не понимаете, у меня кончился отпуск, эта неделя была подарком, уже та, предыдущая, была подарком, они меня ждут! Но где вам понять, что и работать тоже нужно: для вас это нечто абсолютно непредставимое.
— Вовсе не непредставимое, — сказала Катя. — Но если ты любишь Эви, если ты правда ее любишь… Не нужно было мне с тобой ехать.
— Я это ради нее предложил, чтобы ей не было одиноко, чтобы ей было проще. Что мне-то с того? Просто абсурдно меня в этом упрекать.
— Значит, все-таки так!
— Что «так»?
— Значит, это все-таки из-за меня!
— Нет.
— Но вы говорили обо мне.
— Она тобой восхищается. Она сразу сказала, чтобы я ехал с тобой.
— Со мной?
— Из-за истории с багажником. Ты лучше впишешься в западную жизнь и все такое.
— Я была уверена, что она поедет с тобой.
— А я как был уверен! Мы каких только планов не строили! Она хотела учиться, сразу же хотела начать. Хотела в Бразилию и в Нью-Йорк, в Италию, и я говорил: да, конечно, поедем, все, что ты хочешь.
— Ты был для нее чем-то совершенно новым.
— Я был, да, был, это в прошлом, проехали.
— Я не то имела в виду.
— А я то.
— Тебе надо повернуть обратно, правда поворачивай!
— Она прокрадывалась ко мне каждую ночь, каждую ночь. Я же видел, сколько в ней желания. Изголодалась прямо…
— По сексу?
— По всему: по сексу, по тому, чтобы держаться за руки, гладить друг друга, строить планы, по всему! Она же мне рассказывала, как она себя ощущает, похороненной, погребенной в этой дыре, она так и сказала: заживо погребенной. А этот ничего не замечает. Или не хочет ничего замечать. Хорошо, я хоть от него избавился. Хоть это!
— Адам счастлив тем, что у него есть, бывают такие люди, которых легко удовлетворить.
— Удовлетворить?! Его легко удовлетворить? Она же застала его с другой. Я видел, как она пришла вся зареванная, потому что он трахался с какой-то бабой, и уже не первый раз. Она мне все это рассказала. А потом бросилась обниматься, когда мы сказали: поехали с нами, мы уезжаем…
Михаэль обогнал «вартбург» и, несмотря на встречное движение, продолжал ехать по разделительной полосе, пока не оставил позади вереницу восточногерманских машин.
— Не бойся, здесь и в три ряда можно.
— А потом?
— А потом она вдруг пришла ко мне. Я сначала подумал, ей просто хочется развлечься. Но для этого она была слишком зажата, по крайней мере на первых порах, я сначала подумал: все должно произойти быстро, чтобы Мона ничего не заметила. Но она была такая, ну, я не знаю — она говорила такие прекрасные вещи. Я об этом и мечтать не мог, чтобы женщина, которая так хорошо выглядит, может при этом еще и быть такой.
— Какой?
— О какой всю жизнь мечтаешь. Я думал, такое только в кино бывает. И без детей, и даже не разведена, а совсем еще молоденькая и все равно какая-то другая. По крайней мере, я так думал. Я просто ошибался, merde!