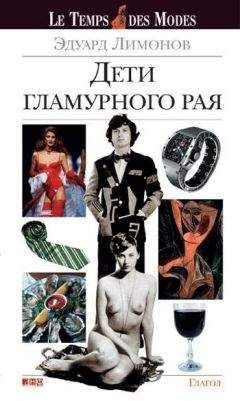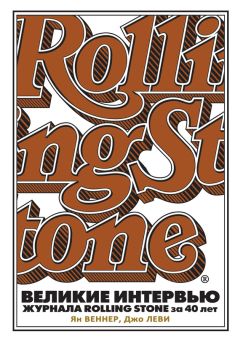Юра выносит мне из избушки кусок — одну вторую постели, кладет его в грязь возле низких кустиков с белыми цветами. Плед поверху, книгу в руки — вот дачник Э.Лимонов.
— А чё за цветы, Юра?
— Клубника.
Никогда не лежал я рядом с клубникой. Да и на дачах за свою бурную жизнь я не бывал. Или почти не бывал. Но стыдно ходить таким бледным, как я, люди подумают, что я заболел. Я накрываюсь солнцем и вгрызаюсь в книгу друга поэтической юности. Я успеваю дочитать до двенадцатой страницы, до пассажа: «Забвение Джона Донна и Тюрго — это серьезно. Трагедия Клейста и Пьера Береговуа — это трагедия. Радость Пушкина и Бисмарка — это радость. И те, и другие — публичные люди», когда у ограды останавливается внушительного вида автомобиль, двери отворяются, выходят два мордатых типа, роются в багажнике, в это время у них говорит рация. О чем-то спрашивает Юру, он, с тяпкой в руке, в это время пропалывает грядки. Это я приехал загорать, Юра же прилежный, у него жена и приемная дочь. Юра что-то отвечает, не слышно — что. Стоит, опершись на тяпку, у ограды. Я пытаюсь читать дальше.
«Судьбы мира, решаемые на кончике пера. Яд в кармане Бисмарка, следящего за сражающимся Мольтке, признаки отравления у Флобера…»
За грядками клубники, ну в пяти метров от меня, стоит, пробрался один из приехавших типов и меня осматривает. В руке у него, впрочем, некий шест, а в кармане куртки — говорящая рация. Я в упор смотрю на него. Он уходит. Подходит Юра.
— Что за люди. Юра?
— Да, сказали, землемеры.
Юра улыбается.
— Какие землемеры, Юра, в воскресенье?! И чего они появились после нас? Куда мы, туда и землемеры?
— Черт его знает, Эдуард Вениаминович, может, соседка вызвала…
— В воскресенье. Юра?! С рациями! И где сама соседка? Когда-нибудь до этого они сюда приезжали?
— Нет. Год назад приезжали землемеры. Но другие. Молодые. Парень и девушка. Но те с прибором геодезическим. И машина другая, попроще, без этих антенн.
— Землемеры хуевы!
Я поднимаюсь с матраца. Оставляю Сабурова одного. Осматриваю свою кожу, отодвинув край черных трусов. Загорел уже! Замечаю этикетку «BOSS» лицом вверх. Объясняю Юре:
— Это мне пацаны в тюрьму загнали, уроды. Я попросил черные семейные трусы. И вот что купили…
Покрутившись, землемеры отъезжают. Мы отъезжаем около пяти. Я красный как рак. Безнадежно сгорел, от жадности к солнцу. У меня осталось девять месяцев срока. Поскольку я условно-досрочно освобожден, я должен быть предельно осторожным. На всякую поездку я должен спрашивать разрешение у курирующих меня ментов. И каждый месяц я должен отмечаться у них. Там, где Рязанское шоссе вливается в Кутузовский проспект, я говорю Юре:
— Землемеры, а, Юра? В воскресенье — землемеры!
Юра смеется.
Потом оказалось, конечно, что соседка никаких землемеров не вызывала.
В последний раз я был там в начале июля. Исаакиевский собор в дыму, крики атакующих гостиницу «Астория» членов сразу трех политических организаций, протестующих против моего приезда в Петербург, ОМОН, нейтрализующий моих противников… О, это сладостное зрелище я еще долго буду помнить. Особенно мне запомнился рослый могучий омоновец, волокущий по траве сквера за шиворот розоволицего юношу, орущего:
— Лимонов — гад, тебе покажет Петроград!
А я в это время, никем не видимый, проезжал с охранниками и беременной женой в автомобиле «Хаммер» с темными стеклами. За рулем сидел мой издатель и устроитель премии «Национальный бестселлер». Невидимые, мы проехали сквозь битву и пришвартовались к двери гостиницы «Англетер», в десятке шагов. Пока они там все бесновались в дыму, розовом и зеленом, наша группа прошла по коридору, соединяющему «Англетер» с «Асторией», и я появился в зале, где началась церемония. Поскольку я был избран председателем жюри, а моя жена Екатерина Волкова была выбрана в члены жюри.
Так что мои последние воспоминания о Петербурге отрадны. Там за автомобилем «Жигули» (за рулем питерский нацбол Женя) ежедневно следовали от трех до шести автомобилей наружного наблюдения, принадлежащие местным спецслужбам. Однажды мы заехали в некое простонародное кафе — ну, знаете, где мужики пьют водку под борщ… Вообще-то мы искали традиционную питерскую рюмочную. Дело в том, что я любитель ретрозаведений, где сидят настоящие простые люди: и интеллигент в шляпе, и синяк с соседнего завода; но вот рюмочной по дороге не случилось. Сели мы в зале кафе впятером, охранники мои на службе не пьют, я взял себе сто граммов водки, и вдруг заходят эти «опера», которые за мной следуют. Сразу два экипажа машин: восемь человек, среди них две девки-«ментовки», то есть особи женского пола. Заказали на всех грамм триста коньяка — за счет государства, конечно. Ну и обед. Все на стол наш поглядывали — мол, на каком этапе наша трапеза, чтобы быть им готовыми, — и вышли, когда мы стали пить компот. Когда мы вышли к нашим «жигулям», они уже в нетерпении прогревали моторы…
Всякий раз, бывая в Петербурге, я посещаю Дворцовую площадь. Только там, в единственной в своем роде точке на карте России, я чувствую себя гражданином Империи. Лучше всего стать спиной к Зимнему дворцу — вполне убогому, надо сказать, сараю, заслуживающему сноса, — так, чтобы перед тобой была Александрийская колонна, и смотреть на здание Генерального штаба. Здесь, и только здесь, на этой брусчатке, среди желтизны правительственных зданий, обитает Величие Империи. Пропорции и цвета соблюдены таким образом, что Дворцовая площадь преисполнена мощью, пространством и силой. Но, я же говорю, — портит все Зимний дворец, окрашенный в зеленый цвет, невыразительный сарай. Хваленый же Эрмитаж полон ненужных, достаточно тупых предметов, барахолка какая-то, а не Эрмитаж, ей-богу. Так что нечего жалеть, что его разворовывают. По мне, элегантные очертания современного компьютера эстетически выше, чем все эти базарные яйца Фаберже.
Медный всадник не прошел мой контроль. Какой-то приземистый и небольшой. Как из папье-маше. К тому же стоит он на низком месте. Ничего выдающегося, сколько я к нему ни приглядывался, я в нем не обнаружил. Он вполне достоин современной своей судьбы — исправно служить фоном для свадебных фотографий. Женихи и невесты Петербурга счастливо фоткаются на фоне этого китча времен Екатерины.
Ну, если шутки в сторону, Петербург — наш единственный европейский город. Он тем более прекрасен, что все больше приходит в негодность и запустение. Там есть такие уголки! Одна улица Росси, где балетная школа имени Вагановой размещается, чего стоит. Идя по ней, я всякий раз чувствую, что нахожусь в стопроцентном, живом Древнем Риме. Где-то в 1995-м, если не ошибаюсь, я приезжал в Петербург навестить очень странного человека, работавшего в школе имени Вагановой. Ему было сорок, невелик ростом, хромал, усы как у Ницше. Он работал под самой крышей школы на улице Росси в комнате с несколькими компьютерами. Я знал его недолго, так как он вскоре умер. По-моему, его фамилия была Сорокин, а имя, кажется, Станислав. Он расшифровал некую китайскую, очень известную голограмму, что ли, и обнаружил, что в ней записан, расшифрован еще до нашей эры генетический код человека. Впрочем, за верность своей памяти я не ручаюсь. Этот человек пользовался расположением тогдашнего директора школы имени Вагановой Леонида Надирова. Сейчас Надиров — заместитель министра культуры. А тогда он и Сорокин водили меня по школе, показали класс, где обучался молодой Рудольф Нуриев, я фотографировался с какими-то девочками-близнецами. А жил я в квартире во дворе на Фонтанке. Квартира принадлежала школе имени Вагановой, в ней было два этажа, туда обычно школа поселяла своих балетных гостей. Там не было телефона, но там был великолепный дух города, в котором жили герои Гоголя и Достоевского.
По ночам ко мне приходил поспорить молодой человек, писавший стихи под псевдонимом Пепел, он приводил с собой товарищей. Все они были одеты в камуфляж. Питаться я ходил за угол на улицу Древнего Рима — Росси, в столовую интерната школы имени Вагановой. Там давали пюре с советскими котлетами. А с Надировым я несколько раз ходил в Мариинский театр, сидел там в директорской ложе. Когда я попал в тюрьму, то Гергиев поставил в Мариинке все оперы «Кольца Нибелунгов». Я сидел в тюрьме и мечтал, что когда выйду, схожу в Мариинский театр…
Сравнительная история авиаперелетов
В семидесятые, восьмидесятые и девяностые я много путешествовал по миру, часто летал, и потому салоны самолетов авиакомпаний были для меня родным домом. В частности, я много летал по Европе на British Airways, она была дешевой компанией, правда, в Лондоне бывала пересадка, но я привык к внутренностям аэропорта Heathrow. Я сидел там, накачивался алкоголем из duty free, разглядывал женщин, оценивал их, короче, наблюдал за жизнью. Помимо женщин, там было на что посмотреть! Я не раз видел путешествующих раджей, убранных в шелк и драгоценности, видел как-то султана либо шейха, летевшего вместе с гаремом (все в белом шелке, лица закрыты)! Однажды я встретил в Heathrow такую бесценную африканскую принцессу, такую драгоценность, что просто решил изменить всю свою жизнь из-за этой тоненькой статуэтки-девочки…