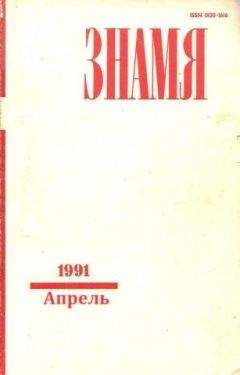Вот каков был этот дом: деревянный, двухэтажный, с палисадником, выходящим к дороге, которая была центральной улицей нашего города и называлась «Октябрьский проспект» и в то же время была Рязанской дорогой. Значит, Рязанкой.
А позади дома были огород и сад (не наши, конечно, а хозяйские), а за ними опять же Рязанка, но это уже — Рязанская железная дорога.
Мы обитали, зажатые двумя дорогами, двумя Рязанками, как лезвиями ножниц, и эта географическая подробность, наверное, важна для понимания моего детства.
Огород и сад, и помойка за огородом, где однажды я разыскал домовую книгу с десятью паспортами, ее потерял пьяненький домоуправ и выложил мне шестьдесят копеек «наградных», крошечный заболоченный прудик, среди лопухов и крапивы, и такая же крошечная горка на задах — все это оказалось невероятно значимым в моем, осваиваемом мной мире.
А впереди, сразу за палисадником, огромный одноэтажный дом с малопонятным названием «Нарсуд», где вечно толпился народ, но особый народ, он никогда нас, пацанву, не гнал, в худшем случае не замечал, а в лучшем — совал, чтобы разжалобить судьбу, дешевые конфеты-подушечки, в простонародье именуемые «Дунькина радость».
На задах нарсуда, а эти зады почти смыкались с нашим палисадником, стоял сарай, мы любили туда забираться. Там лежали грудами бумаги, в которые мы играли, бланки, марки и многое другое, такое же заманчивое.
А ведь чьи-то судьбы!
Справа от палисадника находился конный двор, повозки, фургоны для хлеба, в которых под решеткой всегда можно набрать сухих и сладко хрустящих корочек.
Тут много лошадей, и нас сюда тянет, особенно же тянет к огромному, лежащему посреди двора кристаллу соли, мы встаем на четвереньки и пробуем его лизнуть!
За конным двором крошечный домик, с золотыми шарами под окном. Там жили две тихие женщины. Они никогда с нами, то есть с моей семьей, не дружили и не общались, а если встречались у колонки, которая находилась против их дома, то молча смотрели, не здороваясь, глаза у них почему-то всегда были печальными.
Но вот я запомнил, после смерти мамы однажды они вдруг позвали нас с сестренкой домой и накормили. А с собой дали конфет: необычных, шоколадных, в синих ярких обертках!
Самым притягательным местом для нас, люберецкой ребятни, была Рязанка: я имею в виду главный проспект и шоссе.
К железной дороге ходить было настрого запрещено. Другое дело с родителями.
Вот мы возвращаемся с отцом из бани. В Люберцах есть своя баня, но мы почему-то едем из Москвы на электричке, видать, наша на ремонте. Очень весело мы доходим с отцом до дома, и вдруг он хватается руками за-воздух и восклицает: «Ах!» — прямо помню, как он это произнес. «Ах! Сетку-то с бельем в поезде оставили!» И мама, глядя на нас, вздыхала: «Мои ротозеи, где ж я вам теперь белье найду?»
А папа, жестикулируя, кричит:
— Так ведь не догонишь! Поезд-то ушел!
— Ушел, — соглашается мама. — Но может, кто-то… Найдет?
— Кто? Кто? — кричит папа, а сам аж покраснел от конфуза. Дома и правда с бельем, видать, не шибко. Дают по талонам на мануфактуру.
Да еще все по талонам дают, и хлеб, и прочее.
Сейчас-то я знаю, что еще до моего рождения у нас была карточная система, и отец, вернувшись из армии в 33 году, застал мать и меня (мне два года) голодающими, в доме ни корочки хлеба. А он привез пудовый мешок с мукой, тем и спаслись. А вот сливочного масла я в детстве не ел, его и по карточкам не давали, а в 35-м, когда карточки отменили, масло появилось в коммерческом магазине, но было так дорого, что мы не могли его купить. А потом война, не до масла. А потом еще более голодное послевоенное время. Так что сливочное масло я впервые попробовал, наверное, году в сорок восьмом или сорок девятом. Но лишь попробовал, а уж вдоволь, чтобы на столе…
Вот какой странный разговор о тех временах в связи с бельем и ушедшим поездом.
Но и до сих пор выражение: «Поезд-то ушел!» — воспринимаю как отчаяние отца и молящий голос мамы, потерявших с этим поездом очень многое.
Зато следующее воспоминание светлей. И оттого, что лето и солнце, и мной любимый дядя Миша, которого я зову Папанька.
Запомнилось, возле длинных складов грузят арбузы. Папанька стоит на грузовике и легко ловит их, брошенных ему из вагона.
Один из крупнополосых красавцев он протягивает мне: «Держи, Толик! Снеси-ка маме, да не урони!» Мне мама, а ему, значит, сестра.
Арбуз вроде бы не велик, были и побольше, но я тащу, обхватив двумя руками, и на радостях тихонько его подбрасываю, играю. Раз подбрасываю, другой, и вдруг он выскальзывает, летит на землю, раскалывается на несколько кусков. Кругом красная мякоть и черные, вкрапленные в пыль семечки.
Помню даже, где это произошло: на задах нашего дома, за огородами, рядом с одноэтажным домиком Паршиных.
Этот дом я обычно обхожу стороной, потому что Колька Паршин — «шпана», так говорит моя мама.
Он дружит с Вовкой, сыном нашего хозяина, который тоже «не лучше».
Но вот после войны в футбольной команде «Спартак», а потом и в сборной страны играет Паршин, и мне говорят; тот самый, из люберецкой шпаны!
Дом в Куракинском переулке
А дом наш был стар, какого-то дореволюционного времени, мы в нем находили кредитки, разные, с Петром Первым и Екатериной, свернутые трубочкой и уложенные в бутылки, которые хранились в чулане.
Такой точно дом мне попался однажды в Осташкове, когда я приезжал на Селигер. Я лишь взглянул на него снаружи и сразу понял, что он похож на мой дом. И сени, и крутая наверх лестница, и даже расположение комнат; мои-то знакомые в этом осташковском доме жили на первом этаже, как бы на месте наших хозяев: тети Тани и дяди Вани. Для остальных он был Иван Ивановичем.
Помню, поднявшись наверх, я постучал в «свою» дверь и почему-то испугался. За дверью зашевелились, и мне открыл дверь дядя Вася, древний-древний дед, осташковский рабочий, ныне на пенсии. Он показал мне комнату, но тут уже ничто моего не напомнило, и я быстро ушел. А дяде Васе охота было поговорить. Ему исполнилось девяносто, и он еще ходил на плес за рыбкой, Так вот, дядя Вася стал рассказывать, что против дома стоят столетние вязы, а корни у них такие, что вросли в дом. И когда с плеса дует сильный ветер, они корнями раскачивают дом, и он плывет… Впечатление прям как на пароходе!
А у нас в Люберцах, когда становилось темно и в палисаднике мотало в осеннюю сырь деревья, темные тени угрожающе наползали на стекла, и мы испуганно жались поближе к свету.
Мы — это Сашка, мой дружок по квартире, и я.
Да и окна сейчас описываю в Сашкиной комнате, там было три окна, и все они выходили на Рязанское шоссе.
У нас же было окошко вбок, на Куракинский переулок. Под этим окошком находилось крыльцо, и если я терял ключ, я мог залезть на крылечную крышу и оттуда проникнуть через окошко в комнату. Летом, разумеется. На зиму вставляли вторую раму.
А в войну мы спускались в подвальное помещение, которое было, как я запомнил по чудному слову, железобетонное.
То есть сперва мы вырыли у дома щели, узкие такие окопы в земле, обшитые деревом и накрытые холмиком земли для маскировки. В этих щелях было сыро и холодно. А потом их вовсе к осени затопило дождями, и тогда наш хозяин дядя Ваня Гвоздев, а может, и не он сам, а так приказали, открыл для нас свой замечательный подвал. Мы бежали туда во время воздушных налетов, а мама от страха закрывала глаза, когда ухали зенитки, и спрашивала тех, кто влетал возбужденно с улицы: «Вы думаете это — газы?» Почему-то она боялась газов. Мы же ничего не боялись, мы в школе проходили их: и слезоточивые, и удушающие, и другие, я даже названия запомнил: иприт, люизит, дифосген…
Казалось, что это не больше, чем занятная такая игра, пока война не стала реальностью с бомбежками, когда прожекторы синими лезвиями рассекают небо, и начинает со странным звуком лопаться над головой и появляется ни с чем не сравнимый прерывистый гул, по которому мы сразу научились опознавать вражеские самолеты. А нас, еще сонных, тащат в железобетонный подвал, где по углам еще лежит хозяйская картошка и какое-то тряпье, а мой отец, утешая мать, произносит: «Здесь лишь опасно прямое попадание… А так, снесет верх, а подвал-то останется! Он — железобетонный!» И щупает серые стены, а все напряженно его слушают. Как же! Любое слово о безопасности ловится на лету.
Никто еще не знал в ту пору, не ведал, что страшна не эта или другая бомбежка, а долгая, мучительная война, которой многим не пережить именно из-за этой долготы, из-за голода и болезней. Вот как нашей маме.
Память трудно расчленить без вреда на отрезки, она единая, это дорогу, да и то условно, можно как-то разделить на остановки.
Но если бы оказалось возможным без потерь представить мою жизнь по частям, то вышло бы три неравных части, и одна из них — моя довоенная жизнь, самая ранняя, состоящая из каких-то проблесков, первых ощущений, догадок, потом война, а далее все, что было после, вплоть до моего последнего мгновения.