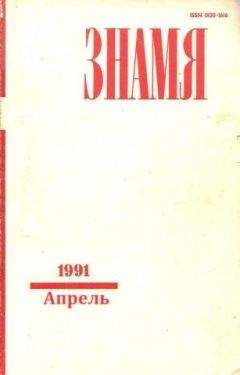Но если бы оказалось возможным без потерь представить мою жизнь по частям, то вышло бы три неравных части, и одна из них — моя довоенная жизнь, самая ранняя, состоящая из каких-то проблесков, первых ощущений, догадок, потом война, а далее все, что было после, вплоть до моего последнего мгновения.
До войны: оно должно было произноситься и писаться как бы на едином выдохе (а может, вдохе), как одно целое, а именно «довойны». Все буквы вместе и все залпом.
Мы научились говорить: «Как довойны». Утешаясь в самые смертельные, отчаянные времена.
Вот победим, и снова будет у нас жизнь «как довойны».
При помощи этого магического слова мы пытались как бы приблизить будущее через наше прошлое. Хотя едва помнили, как оно было и было ли на самом деле, память истаивала, теряя по крохам подробности, и уже не сама реальность, а нечто туманное, преувеличенное, как всякая желаемая фантазия, поддерживала нас. Ничего другого, правда, и не оставалось.
Порой мне кажется, что я помню ее всю, эту войну. Всю — по дням и часам. Но это неправда. Я, как и остальные, воспринимал войну послойно, по временам, и среди них есть слой сорок первого и сорок второго и так далее годов, и так они кругами отложились на моей древесине: угольно-пепельные, широкие. У дерева, кто знает, на срезе широкие полосы означают неблагоприятные годы.
Но и то, что осталось, могло оказаться непосильным для наших неотвердевших душ, да и неокрепших позвонков, которые подчас не выносили тяжести пережитого и лопались, как разрывные пули.
Это не образ, а реальность. Многие мои дружки, перенеся войну, не перенесли ее последствий.
А что такое последствия, если не та же война, только растянутая на все остальные наши годы.
Значит, пережить физически войну — это еще не все, не все, что нам дано. Нам пришлось тащить ее годами на себе, как непосильный груз.
Стараясь не помнить и все-таки вспоминать, пусть и невольно: делать вид, что она осталась там, вдали, подавлять ее, но одновременно чувствовать каждое мгновение, как она стучит внутри нас, готовая вырваться наружу.
Зрительно я представляю пережитое нами как некое минированное поле, о котором до поры забыли, оно поросло травой. А мы пашем и пашем по этому полю, обреченные взрываться, и мы взрываемся, хотя этих поздних, уничтожающих нас взрывов уже никто не слышит. Люди уверены, что мы не гибнем, что мы умираем от инфарктов.
И оттого, что жить надо, а воспоминания опасны, мы ищем среди них такие, что, как островочек, в момент крушения, способны спасти, поддержать нашу жизнь на плаву.
Был такой островок на Селигере, его стерло льдами, он оказался под водой, но в момент крушения он спас меня ночью во время бури.
Отыскивая ступнями хоть какое-то подобие суши, мы натыкаемся на крошечный пятачок земли, который называется — довоенное детство.
Неподалеку от нашего Куракинского переулка, напротив через дорогу, а дорога эта была многошумная разъезжая Рязанка, стояла самая большая в Люберцах школа, ее только недавно построили; она была белая, из силикатного кирпича, многоэтажная, с широкой парадной дверью, огромными окнами и просторным зеленым двором, где я впервые научился играть в перышки.
Была такая игра: каждый старался по очереди перевернуть чужое перышко выемкой кверху, щелкая его по хвостику. Выигрышем служило перо, а сами перья были как бы нашей детской валютой, она продавалась, покупалась, обменивалась на что угодно.
Но волей судеб, по каким-то неведомым мне, чрезвычайно обидным причинам, меня в первый класс приписали к другой школе, она была далеко от дома, на краю города, и располагалась в деревянном двухэтажном старом здании, очень тесном: маленькие классы, крошечные коридорчики, полуслепые окна, а двора у нее вообще никакого не было.
В первый же день, который должен быть бы моим лучшим праздником, я вдруг понял, что меня жестоко обманули.
Я расплакался и наотрез отказался ходить в эту школу.
Я хотел посещать мою, на моей улице, куда, как нарочно, попало большинство моих дружков из соседних домов, Я даже пытался с ними разок тайно сходить, но меня изловили и отвели за руку в теперь уже навсегда нелюбимую школу.
Травма, которая осталась во мне навсегда.
Я проучился здесь целых два года до начала войны. Потом меня отправили в эвакуацию, и больше я сюда уже не возвращался.
Если бы меня сейчас попросили показать место, где располагалась эта школа, я не смог бы этого сделать.
Хотя я помню многое из тех времен, помню, например, где стояла мороженщица, которая торговала желтоватым, необыкновенно душистым, довоенным мороженым из круглой жестяной формы, закладывая его в круглые вафельки, а на вафельках стояли имена. Самое дешевое мороженое стоило десять копеек, а самое дорогое, огромное, недоступное, желанное — рубль.
Я помню, какие были витрины у углового гастронома на центральной улице, где располагались пожарная, нарсуд и ремеслуха и тот родильный дом, из которого я вышел.
Я помню баню, куда еще ходил не с отцом, а с мамой, она носила с собой тазик с бельем, помню поликлинику, кинотеатр, старый парк, пруд, разрушенную церковь, трикотажную фабрику, фабрику-кухню.
Но вот учительницу, самую первую, которая учила меня всего-то два года, я помню очень хорошо.
Ее звали Анна Михайловна. Впоследствии я всех учительниц называл этим именем, настолько впечатление от той моей первой учительницы было сильным.
Я запомнил и ее внешность: она была небольшого роста, темненькая, худощавая и вроде бы с больными легкими. Во всяком случае, цвет ее лица был какой-то сероватый, и она постоянно чуть подкашливала и куталась на уроках в коротенькую бурую дошку.
В других классах другие учителя распространялись на темы тогда модные: о кок-сагызе, который начали внедрять в сельском хозяйстве, чтобы добывать из него каучук, о сое, волшебном растении, из которого делают все, от конфет до муки, о хлопке и девочке по имени Мамлакат, которая догадалась первая среди всех собирать этот хлопок двумя руками. А товарищ Сталин подарил ей на съезде колхозников золотые часы.
Но, конечно же, и нам об этом говорила Анна Михайловна, как же не говорить, если казалось, что наше счастливое будущее вот-вот наступит для нас, если мы посадим кок-сагыз и сою, и станем собирать хлопок, который у нас не рос, все от мала до велика только двумя руками!
Но вот еще, кроме обязательного, Анна Михайловна читала нам на уроках сказки.
И если о каучуконосах, сое, а потом и еще о чем-то я вспоминаю как о временном и для моего будущего не столь уж необходимом, то сказки оказались самым важным из уроков для моей будущей жизни.
Одна из них была про Синюю Бороду, такая страшная, что я заболел, и, помню, мама приходила к Анне Михайловне и упрашивала, чтобы нам не читали таких ужасных сказок.
Бедная мама, она и не догадывалась, что скоро, совсем скоро я попаду в такие колонии, спецдома, где воспитатели и директора будут, куда страшнее злого волшебника, ломать и преследовать нас.
Еще одна сказка была про путника и волшебный серебряный свисток, путник в него засвистит, когда будет погибать в пустыне, и… Но вот что там произошло, с этим путником, и спас ли его свисток, я так и не знаю, потому что это была самая последняя из сказок, на последнем уроке. И я уехал.
В далекой Сибири, в Зырянке, когда я заблудился и замерзал в поле и меня подобрала колхозница, я не раз вспоминал сказку: она, кажется, так и называлась: «Серебряный свисток». У меня не было свистка, я поморозил ноги, но меня все равно спасли, потому что не только Синие Бороды, рядом оказывались и хорошие люди.
Может, спасся и неведомый мне путник, так, во всяком случае, я досочинил сказку. Точней же, сама жизнь досочинила ее.
А однажды Анна Михайловна притащила из дома синюю дерматиновую коробку, патефон с блестящей ручкой на боку, и принесла старую пластинку, чтобы проиграть нам песню на стихи Языкова. В ней есть такие строки: «Там за далью непогоды есть блаженная страна, не темнеют неба своды, не проходит тишина, но туда выносят волны только сильного душой, смело, братцы, бурей полный прям и крепок парус мой!»
Какое напутствие-заряд для крошечной, едва зарождающейся души в преддверии военного бродяжничества и многих лет беспризорщины!
А пластинка была заезжена до того, что только хрипела, и два странных голоса едва различались, будто они пели и правда сквозь бурю, а чтобы лучше нам были понятны слова, учительница сама старалась подпевать, вот это был урок! На всю жизнь — урок! Урок музыки. Правда, там, в Сибири, мы тоже учились музыке, но другой, когда разучивали Гимн Советского Союза. Это случилось в детдоме в Сибири, и наше время с Москвой совсем не совпадало. Разучивание происходило по радио, организованно, и транслировалось на всю страну. По этой причине нас вовремя клали спать, а потом, среди ночи, поднимали и вели в директорский кабинет, где висел репродуктор, черная тарелка, Сонные и от сна слепые, тыкаясь друг другу в спину, мы набивались в директорский кабинет, как в коробочку, битком, так, что стоять приходилось плотно, затылок в затылок.