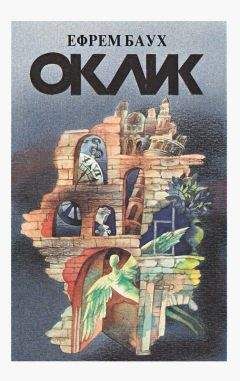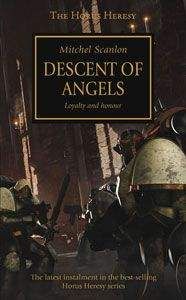Ознакомительная версия.
У печали и обреченности запах подземелий.
Но тем обостренней жажда жизни, жажда воспоминаний.
Как неожиданные провалы в памяти – огромные глыбы окаменевшей земли, поддерживающие своды; в гигантском теряющемся во мраке зале, очевидно, церковном, колонны схвачены железными скобками, за ним – зал поменьше, каменные скамьи.
Здесь проводят музыкальные концерты, объясняет гид по-английски, мелькающий где-то впереди, а мы идем по какому-то тоннелю, медленно, словно бы ползем, каплет со сводов: подземелье, темный лабиринт с шорохом шагов, неясным дальним бормотанием гида – как прямое продолжение ночного сна.
Лабиринты прошедшей жизни впрямую соединяются с лабиринтами подземелий Акко…
Опять это слияние двух стихий.
Их нерасчлененность.
И срезанная под корень лунатическая местность моего детства кажется мне столь же далекой, как времена крестоносцев – от современности.
И лампочки, горящие под сводом тоннеля, двоятся, троятся все тем же одиноким фонарем на улице детства, у дома Карвасовских.
Тридцать лет в пределах одной человеческой жизни равны столетиям.
И смена юности зрелостью – как смена общественных формаций.
Два потока времени одной жизни, разделенные тридцатью годами, сливаются, смещаются, противостоят друг другу…
Их нерасчлененность удваивает силу памяти…
* * *
СТРАСТИ СОРОК ДЕВЯТОГО.
ЮНОСТЬ: УТРЕННИЕ ЧАСЫ.
СПЯЧКА И ЯРОСТЬ.
Зима сорок девятого жестока. В ледяных панцырях стоят деревья, высоки сугробы. Люди передвигаются, но все как бы погружены в спячку. В глубоких завалах моих снов течет, опрокидывает, слепит одно видение: потоп в горячих июньских руслах ушедшего лета сорок восьмого, нижние улицы Кишинева, залитые водой, грязные потоки, вздувающиеся по обочинам улиц, и мы с мандолинами и гитарами, в верхней части города; в комнатах "Культпросвета". Уже темнеет, льет как из ведра, место для ночлега нам не нашли, устраиваемся прямо в кабинетах, кто на столе, кто – под столом, кто – на стульях; всю ночь кто-то падает на кого-то, возня, смех, окрики руководителя нашего Валерия Федоровича. На другой день солнце ослепительно, под ложечкой сосет, сидим в какой-то столовой, а поесть все не несут; изнывая от безделья, насыпаем в графин с водой соль из нескольких солонок. К нашему ужасу, один из взрослых вдруг наливает себе из графина воду в стакан, подозрительно смотрит на наши постные лица и выпивает воду как ни в чем не бывало. Давимся от недоумения и смеха, от горячего супа и котлет, вероятно, сделанных из хлеба.
После удачного выступления уезжаем домой, спим всю дорогу. Не успев войти в дом, валюсь в постель. Сплю до часу дня, просыпаюсь, выхожу из темной комнаты: ослепительное солнце, стоящее над двором, сверкающее в сочных бурьянах, реющее легкой испариной над еще влажной с вчерашнего дня землей, рассекает мой сон надвое, в который вновь проваливаюсь, едва вернувшись в комнату и сплю до утра следующего дня. Такого долгого, просторного по-юношески сладкого сна, вероятно, больше никогда у меня не было в жизни, а ослепительная цезура солнца, рассекшая этот сон, и по сей день слепит отошедшим и потому печальным светом того мгновения, когда я пересекал двор, мгновения молодости, сверх меры полного беззаботностью и ощущением, что вся жизнь впереди…
Барахтаясь, пытаюсь выбраться из завалов послеполуденного, какого-то угарного сна под гулкие удары в замкнуто-пустых металлических емкостях: недалеко от нас, в полукилометре вниз по течению Днестра, – пристань; пароходы, а вернее старые колымаги "Молоков" и "Ляпидевский", да пара грузовых барж остались на зимовку, вмерзли в глубокий лед, их понемногу ремонтируют засыпающие на ходу люди: изредка в нутре то одного, то другого металлического корпуса раздаются ленивые удары.
Вспоминаю, что над обрывом, у пристани, меня ждет одноклассник Игорь Горенюк. На лыжах я научился ходить еще в селе Норка, но Игорь в этом деле мастер. На две головы выше меня, с длинным, цыгански-смуглым и все же странно старообразным лицом, в полушубке и островерхой бараньей шапке, медленный и по-взрослому деловитый в движениях, он выглядит рядом со мной дядей. Он рассудителен и скуп, как вся его зажиточная семья, приехавшая откуда-то с Украины, но тем не менее подарил мне лыжи. Ему же купили новые. Ощутив под собой эти легкие деревянные лезвия, этот рассудительный и осторожный полуподросток-полудядя становится неузнаваемым: с гиком несется вниз по склону, поворотами взвихривая облака снега, к обрыву, резко падающему в реку, еще миг, и сорвется, покатится, сломав себе руки-ноги, но в этот миг-то он резко сворачивает и застывает над пропастью. В оцепеневшем, темном, клубящемся холодом полдне, в котором живые существа движутся, как сомнамбулы, вся страсть и сладкий страх катания с горы заключены в этом миге над пропастью. Вначале я тормозил и разворачивался в двадцати, десяти метрах от края обрыва, теперь же стараюсь перещеголять Игоря, уже и страха не испытываю, только все внутри леденеет, а после пылают щеки и чуть кружится голова, а в полукилометре выше по течению в узкой нашей кухне ни о чем не подозревающая бабушка топит печь, варит все ту же "балендру" и распевает песенку:
Дрейт зих а шолтикл ойф дер гас
унлерненкен эр горны т,
эр дрейт зих арум пыст ин паст
ун тут алсдинкс вус мэ торныт… [18]
Страсти на голодный желудок, вероятно, особенно несдержанны, озлобленны и жестоки. В классах собачий холод. Сидим в ватниках за двумя длинными столами, все девочки – за первым и на одной скамье, все мальчики – за вторым. На математике с Ефимом Абрамовичем Лабунским шутки плохи, и он, на вид такой болезненный, бледный, вялый, держит нас в жестокой узде; зато мы отыгрываемся на немецком, а на ботанике вообще впадаем в бешенство, уже после звонка визжим, прыгаем, деремся, в класс врывается изголодавшийся, очкастый, в жалком пальто, несчастный в своей свирепости ботаник по кличке Семядоля, хватает первого попавшегося за воротник и ведет в угол, пока бежит за следующим, первый покидает угол и садится на место, в течение нескольких минут человек семь отведено в угол, а в результате все сидят, начинается урок, вдоль стола из рук в руки движется сделанный Семядолей гербарий, возвращается к нему весь изорванный, учитель впадает в ярость, сдавленно кричит, размахивает руками, теряет очки, что вызывает отчаянный хохот, падает скамья, все мальчишки лежат на полу в ряд и давятся от смеха.
После уроков не хочется идти домой: там ждет меня скучная работа – выбивать буквы в жести – трафареты для консервного завода; за жалкие копейки, отбивая себе пальцы, высекаю – "брутто", "нетто", "тара", а в доме нету никакого "нетто", одни тары-бары, пустота, темень, запах влажного угля. Иду шататься по городу. Сначала провожаю Жорку Бондаря, отец которого зам-предгорисполкома, дом их дышит сытостью и благополучием. Затем отправляюсь в любимые места: стараюсь держаться подальше от церкви, подолгу торчу у витрины аптеки, прикованный взглядом к изгибам клистирных трубок и реторт, к сверкающим на шкафчиках надписям "Героика" и "Венена" на латыни, и за этим грезятся мне все тайны алхимии, хотя за прилавком стоит такой домашний лысый еврей в очках, мамин знакомый Эммануил Фельдман.
Поворачиваюсь к аптеке спиной, лицом к городской "парадной" площади, которая слева упирается в церковную ограду, справа – в "трибуну", неказистое каменное сооружение, жалким остовом торчащее из-под снега.
Поднимаюсь на нее по двум-трем ступенькам, медленно озираю площадь: передо мной церковная колокольня, обсиженная гирляндами галок по всем краям. Срываюсь с трибуны, бегу в узкий переулок между аптекой и развалинами, меня выносит к приземистым хатам на окраине бывшей Николаевской, ныне Коммунистической, за ними уже заброшенное захламленное поле – до изгиба железнодорожного пути от Варницы к мосту, а за ним – до приземистых башен крепости: горы мусора, обломки машин, платформ, оглобель, ящиков, разбросанные по полю, облитые льдом, полузасыпанные снегом, торчащие из-под него подобно костям, опрокидываются на меня, как бы мгновенно приближенные кинокамерой, зрелищем давно отгремевшего, уже истлевшего побоища, заледеневшим безмолвием отбушевавшей ярости, страха и гибели.
Я вижу себя со стороны, маленького, тщедушного, закутанного в одежки, с полотняной сумкой книг и тетрадей, больше похожей на мешок, одиноко, как перст, торчащего на краю ледяного поля забвения, один на один с темным, низким, слабо шевелящим подбрюшьями облаков небом, крупно вросшей в землю замшелыми камнями крепостью, мощно и без раздумья швыряющим свое металлическое тело в пространство мостом.
Утлые протоптанные как бы озирающейся походкой тропинки разбегаются по полю. Выбираю крайнюю правую к реке, затем вдоль обрыва добираюсь до дома.
Эти шатания я про себя называю "переживанием пространств".
Ознакомительная версия.