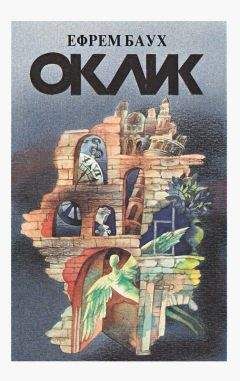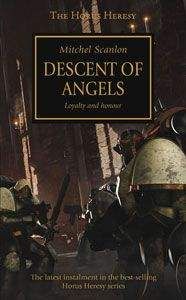Ознакомительная версия.
"Так у меня есть настоящая губная гармошка, – сказал мне Андрей, – валяется где-то, по-моему испорченная".
Эту фразу, случайно оброненную, и можно считать началом моей музыкальной карьеры. Забыв про тряпичный мяч и шляния по городу, действуя на нервы не только окружающим, но и самому себе, с упорством каторжника я извлекал звуки из этого подобия гармошки. Не прошло и недели, как она заиграла. Меня силой потащили в дом пионеров, к Анатолию Федоровичу, который вел кружок по аккордеону и струнным инструментам. Он почему-то посоветовал учиться на скрипке. Флюиды музыки, распространяемые мной, очевидно, дурно действовали на моих одноклассников: так тишайший шкодник и лучший математик в классе Мота Гитерман, вечно бормочущий под нос и хитро улыбающийся после очередной тайной проделки, вроде бы никогда не испытывавший тяги к музыке, вдруг пристал к своему отцу, глубоко религиозному человеку, который все свободное время сидел обложившись грудами древнееврейских книг, затащил его в музыкальный магазин и заставил купить ему, Моте, балалайку. Этого я уже выдержать не мог. Я довел маму до белого каления, я требовал тоже балалайку. Мама кое-как наскребла нужную сумму, и мы отправились в магазин. Балалаек не оказалось, были одни мандолины. Купили мандолину, пришли домой, только я прикоснулся к ней, лопнула одна струна. По-моему, и в младенчестве я так не плакал, несмотря на увещевания мамы, что струну можно сменить. Я и сам понимал, что можно, но лопнувшую струну воспринимал как разрушенное первородство обретенного инструмента. Вернулись в магазин, сменили струну. До поздней ночи, когда мама и бабушка уже спали, я сидел на скамеечке у плиты в кухне и, как говорили соседи Морозовы, "дрынгал", но через месяц у меня уже накопился порядочный репертуар, я опять отправился к Анатолию Федоровичу:
– Как ты, брат, ухитряешься все это играть… двумя пальцами? Невероятно.
Так я попал в оркестр, через полгода уже играл соло "Турецкий марш" Моцарта и концерт для домры с оркестром Будашкина. И лишь тогда я добрался до гитары.
Мы выступали на олимпиадах: хоры пели, оркестры играли, танцоры плясали, но весь этот избыточный треск и шум я готов был в любой миг сменять на несколько тактов из Сороковой симфонии Моцарта, я знал ее наизусть. В любой миг и в любом месте, где возникало безмолвье, всегда так естественно и странно слитое с печалью, я жил под сенью Сороковой: ее волны так спасительно легко и отрешенно несли меня поверх пропастей, в которых скреблась и шевелилась изо дня в день обыденная жизнь, несли к тем нескольким мажорным аккордам, в этом и была вся тайна, и в их почти гибельном и в то же время сладостном сочетании с пронзительной болью ощущалась вся мимолетность жизни, которая для меня только начиналась; эта безотчетно глубокая меланхолия, эта пронизанная светом тоска в мажорном звучании освещала каким-то райски-поту сторонним сиянием все, что меня окружало, делая это окружение еще более обыденным и в то же время более дорогим.
Страсть таилась в порах весны, страсть пахла тлением и горечью влажной древесины, дымилась запахом сирени над плитами могил, соединялась с гибелью; шепоток гибели, казалось, зарождался из ничего в парах этого серого промозгло-весеннего дня с редко проглядывающим солнцем, неверной желтизной отражающимся в лужах за классными окнами, но вот он загулял по коридору, ворвался в учительскую, пошел по рядам, я даже не помню, как это произошло, но через считанные минуты мы всей школой бежали по улицам, к окраине, по полю, к селу Гиска, из переулков толпой вынесло и другие школы, слухи реяли над толпой, все были возбуждены, испуганы, тяжело дышали от невероятного любопытства и тяжкого бега с комьями грязи на подошвах. Начальная школа села Гиска была окружена милицией, одна из стен школы рухнула, обнажив такой осиротелый, с щербатыми от осколков стенами класс, передние парты были расщеплены, покрыты пятнами крови. Где-то кричали, плакали, говорили без умолку. Известный в городе спортсмен, преподаватель физкультуры Татаренко, который был влюблен в учительницу этой школы, но не встречал взаимности, внезапно вошел к ней в класс на уроке, зажав гранату в руке, что-то прокричал, обнял ее и взорвался вместе с нею, рухнула стена, погибло несколько детей, много раненых…
Возвращались как зачумленные, перед моими глазами еще долго стояло зрелище массового бега людей, увязающих в болоте весеннего поля.
Допоздна мы шатались с Андреем по закоулкам старого парка: он был пуст, кружил голову кладбищенским запахом тления и сиреневой свежестью, на пятачке посреди парка каменел на постаменте Сталин во весь рост, а в боковой аллее одиноко сидел на скамье белый, как лунь, старик Хамаритов, который учил еще мою маму в начально-приходской школе. Над нашими головами высоко и кругло стоял серебряно-восковой месяц и подобен он был светящемуся отверстию в иной занебесный мир, отверстию глубокого темного колодца, на дне которого мы обретались вместе с парком, кладбищем справа за ним и стадионом – слева. Ворота стадиона почему-то были открыты, и его огромная чаша пугающе светилась под луной безмолвием потухшего кратера.
В тот год страсть к футбольным баталиям лихорадила всех мальчишек: с необыкновенным проворством мы пробирались сквозь любую щель, через колючую проволоку на трибуны стадиона, где и вправду бушевали страсти как в настоящем вулкане. Встреча с венгерскими футболистами сотрясала весь город, рев болельщиков доносился до самых дальних его щелей. Нашими кумирами были нападающие Чепойда и Туржинский по кличке Брынза, вратарь, грек Делибалт. Накал во время матча с венграми достиг такой силы, что в разгар игры внезапно на поле выскочил на мотоцикле в стельку пьяный сын нашего преподавателя физики Владимира Александровича Матюшенского Борис Владимирович, сделал несколько зигзагов и упал, его тут же окружили милиционеры и уволокли вместе с мотоциклом. Помню, что на этот матч я спокойно пролез под колючей проволокой, поднялся на бровку стадиона, сел и внезапно обомлел, рядом со мной стоял милиционер: он был так увлечен тем, что творится на поле, что не заметил, как я прошел под самым его носом.
Мы были вечно голодными послевоенными подростками с синеватыми от авитаминоза лицами, и половое наше созревание было замедленным и поздним, тем не менее, разговоры наши вертелись, в основном, вокруг этой запретной темы, и многие свою робость и боязнь подойти к девушке скрывали развязностью жестов, покуриванием цигарок "в кулак" и сплевыванием сквозь зубы. В ту весну кроме нудного до оскомины выбивания букв для консервного завода я давал уроки математики двум девочкам на класс младше меня. Фрида Ицкович жила недалеко от нас и старшую ее сестру Зою, взбалмошную и красивую, страдающую астмой, напропалую гулявшую с мужиками, бабушка моя называла не иначе, как "ди ныкейвэ"[20], правда это не мешало ей дружить с их матерью, вдовой, которая вечно жаловалась на своих дочек. Фрида же была замкнутой девочкой, тонкие черты ее лица были строги, брови нежно черны, она была неглупа, но математика ей не давалась: подолгу я вдалбливал ей простейшие премудрости, пока она вдруг, не выдержав, срывалась из-за стола, выбегала на улицу, сломя голову, я же мигом и с удовольствием «потеряв учительскую честь», бросался за ней, догонял в переулке, крепко обнимал, она вырывалась, оба смеялись, успокаивались, мирно возвращались, опять принимаясь за нудное дело.
Вторая ученица, Мирочка Штипельман, жила в большом еврейском дворе на Николаевской, напротив дома сестры моего отца, тети Розы, Была смешливой, смазливой, непроходимо глупой девчонкой. Она слушала мои объяснения, широко раскрыв глаза, хлопая ресницами, не отрывая от меня взгляда, время от времени заливаясь смехом, и вообще мысли ее были совсем об ином и она кокетничала со мной напропалую; гоняться за ней по двору было опасно, все бы увидели, так мы устраивали догонялки в доме, переворачивали стулья, пока оба не валились на диван, давясь от смеха.
Мгновенный оттиск в памяти, живший во мне еще с прошлого лета, набирал новые силы в эти апрельские дни: идя как-то по левому берегу в сторону пляжа, я огибал стоящий в стороне автобус, который привез, вероятно, из какого-то поселка людей на пикник, и вдруг увидел сквозь стекла совершенно голую молодую женщину: она переодевалась. Словно бы меня кто-то хлестнул по лицу, груди, спине.
Ожог этот ослабел лишь с зимней стужей.
Закончив урок с Мирочкой, я шел в ближайший от их дома новый парк с памятником Ленина напротив кинотеатра. Цвела сирень, сладко пахли липы, мальчишки из школы стайками шлялись по аллеям, в почерневшей от снега и дождя беседке-ротонде военные музыканты выдували из медных труб вальс "В городском саду играет духовой оркестр", на скамейках сидели солдатики в обнимку с деревенскими молодками в цветастых платках и кацавейках, и в памяти вертелись строки Артюра Рембо, книжку стихов которого без начала и конца я нашел где-то, таскал с собой повсюду, и тлетворный дурманящий воздух весны сливался со строками, неизвестно кем переведенными с французского: "…Вдыхая запах роз, любовное питье в тромбонном воспоет веселый голоштанник, и с розами в зубах рассевшись, солдатье ласкает детвору, чтобы задобрить нянек…". (Только в начале семидесятых я нашел перевод этого стихотворения "На музыке" Бенедиктом Лифшицем, но он был иным, не совпадал с тем, запомнившимся мне на всю жизнь.)
Ознакомительная версия.