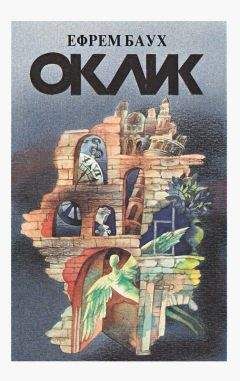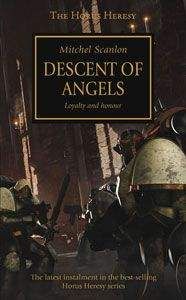Ознакомительная версия.
На необсохшей площадке теннисного корта, обтянутого высокой металлической сеткой, разорванной в одном углу, толпились табуном парни, из табуна торчала нескладно-огромная, сутулящаяся от высокого роста фигура Пети Бачу с непропорционально большой головой, на затылке которой едва держалась куцая кепочка с пуговкой. Что-то происходило внутри толпы. Петя Бачу, скаля зубы в улыбке, отходил спиной к сетке ограды, за ним, как в замедленной съемке, буквально текло какое-то незнакомое существо, оплывшее головой, всем телом, невысокое, в брезентовой робе грязно-лягушачьего цвета, стриженное под машинку. Вдруг скалящаяся челюсть Пети Бачу испуганно отвисла, с ловкостью, невероятной для его роста, он проскочил в разрыв сетки, за ним – недомерок в робе, за ними – весь табун. Петя выскочил на центральную улицу. Не прошло и нескольких секунд, как вся улица бежала. Милиционер на перекрестке испуганно дул в свисток, одиноко замершей фигурой лишь подчеркивая огромную массу бегущих неизвестно куда, зачем, не понимающих вообще, что происходит. Грузный топот и тяжкое дыхание обдавали со всех сторон. Музыканты бежали, сверкая трубами, невысокий толстяк, пыхтя, волок на спине барабан. Непонятно было, как улица, на которой минуту назад гуляли редкие группы прохожих, наполнилась таким количеством людей, из каких щелей нанесло эти хари, чьи ноздри раздувало звериное любопытство и жажда куда-то бежать, бить, кромсать. На улице Калинина толпу понесло направо, затем опять направо – во двор местной гостиницы, там все забурлило, из окон какие-то пьяные морды орали: "Бей его, добивай, гада". Когда мы, мальчишки, вскарабкались на ограду, несколько милиционеров пытались отбить от толпы лежащее на земле, подобно медузе грязно-лягушачьего цвета, тело недомерка, его еще кто-то поддевал ногой, разряжая всю ненависть, которая звериным зарядом накапливается в любой бегущей массе. Разноречивые слухи витали над разгоряченной толпой: недомерок был уркой, недавно выпущен из тюрьмы, и Петя Бачу решил с ним позабавиться, стянул с него кепочку, поддразнивал; когда между пальцев недомерка сверкнуло лезвие бритвы, великан Бачу ошалел от страха. Вид громилы, дающего стрекача от малявки распалил дремлющие инстинкты весенней полусонной толпы. Оплывшее тело зашвырнули в милицейский воронок.
Через три дня я встретил урку: он преспокойно стоял у лотка и ел мороженое.
Был Песах. Дни стояли высокие. Запахи прогретой, но еще влажной земли, набухших соками стволов и ветвей, клейких в своем младенческом сиянии под солнцем новых листьев, истекающих отходящими водами почек перед рождением цветка – были дурманяще чисты. Груды ослепительно белых облаков ощущались ворохом стиранного и накрахмаленного белья, пахнущего арбузной свежестью. Бабушка посылала меня за мацой. Я посетил какой-то сумрачный дом, из трубы которого валил деготно-черный дым, в темном подвале гудели печи, огонь высвечивал бородатые, горбоносые, сухо-багровые, как на картинах Рембрандта, лица стариков, их сильные старчески скрученные руки, ворочающие какими-то широкими лопатами. Эти же руки дали мне сверток мацы. Вечером бабушка устроила некое подобие пасхального седера, и видение Синая маячило передо мной грудой полдневных ослепительно белых облаков, которые на следующее утро тянулись над нами, когда мой одноклассник, хохол Яшка Рассолов по кличке Янкель повез меня на раме велосипеда в плавни, на усадьбу к своему деду. Янкель был крупным и плотным малым с младенчески гладким лицом, ежесекундно заливающимся румянцем от любого чувства, будь то стыд, злость, удивление. Наш учитель физики, куцый, желчный, с вечно сизыми несмотря на тщательное бритье щеками, говорящий в нос из-за постоянного насморка, невзлюбивший меня с первого дня, Борис Гаврилович Кос, называл Янкеля не иначе, как "румяный царь природы". Мы тряслись по кочкам и выбоинам шоссе в сторону Кицканского леса, молочные облака текли над нами поверх деревьев, словно бы окунутых в утреннюю свежесть и тишину.
Край усадьбы, пойменные земли, на которых Янкелев дед обычно сажал помидоры, были залиты высоко поднявшимися водами Днестра, купы камышей и кустов стояли по горло в быстро текущей влаге, гнулись, оставляя борозды на поверхности идущих мощным током грязно-шоколадных паводковых вод, мы сидели у самого их края в насыщенной брызгами и влажным покоем тишине и швыряли плоские голыши так, чтобы они прыгали по водам. Кудахтанье кур, хрюканье свиньи, перекликающиеся по огородам человеческие голоса казались далекими и ирреальными, как сквозь вату сна. Мы ели с Янкелем мед, принесенный дедом прямо из ульев, запивали парным молоком, и над нами витал запах горячего покрывающегося румянцем в печи теста: Янкелева бабка пекла куличи и красила яйца к христианской Пасхе, идущей вслед за нашим еврейским Песахом.
Блаженно-полусонные, мы шлялись вдоль огородных грядок, бегали по лесу, кричали вдаль, ловя эхо, и я был рад, что Янкель не прихватил с собой мандолину: по слоновьей его медлительности музыкальная эпидемия в классе только недавно до него добралась, Янкель приобрел мандолину, я научил его нескольким незамысловатым мелодиям, и он часами пыхтел над инструментом, ежесекундно покрываясь румянцем от наплыва чувств.
Облака, молоко и мед грядой тянулись сквозь весь этот день, и к апрельскому закату, сопровождавшему нас на обратном пути, прибавился бледный, едва проступивший на светлом небе месяц.
Пустынный дом был прибран и тих. Бабушка и мама ушли в синагогу, а потом к знакомым. Я был один, я поглядывал в окно на низко повисшую, словно бы звенящую серебром пасхальную посудину месяца, зажег настольную лампочку, начал читать "Портрет" Гоголя.
Пришли мама с бабушкой, укладывались спать, проверяли заперта ли наружная дверь на металлический крюк, уже бабушка по привычке, повторяющейся каждую ночь, несколько раз окликнула маму: "Зинэ, Зинэ… Ду ост фармахт ди тиер?.. И раздраженный голос мамы: "Фармахт… Шлоф шын, шлоф…"[21] Уже где-то, за домом Кучеренко, в Глинищах, прокричал петух. Я все читал «Портрет». Обжигающий текст поглотил меня, я никогда еще так поздно не бодрствовал, я словно бы обернулся доселе незнакомой мне ночной птицей и залетел в неведомый мне часовой пояс, нарушился привычный ход времени, какой-то иной его счет и ритм нес меня вместе с нашим утлым домиком в тревожно-серебряном половодье яркой луны. Не привыкшие к бессоннице глаза подростка лихорадочно и невидяще вглядывались в это мглистое безмолвие, откуда облаками накатывали видения, тревожили и влекли отроческую душу, никогда еще перед ней не отверзались такие глубины ощущений и мыслей: и призрачный Петербург вливался в эти видения сквозь проломы Коломны, живописуемой Гоголем, мгновенными оттисками страшных кошмаров осажденного Ленинграда, описываемых нашими знакомыми, пережившими блокаду, смешиваясь ледяной гибелью с огненными языками Иерусалима, которые выбрасывали печи, пытаясь поджечь бороды сухо-багровых стариков, пекущих мацу.
Угнетала меня мучительно-острая зрительная память. В те годы замысловатые имена героев книг, фамилии операторов и редакторов фильмов, мелкие имена корректоров, мельком прочитанные на каком-либо титульном листе, западали в память пачками, неожиданно и не ко времени всплывали, и я изводил себя, пытаясь вспомнить, откуда пришло то или иное имя.
Теперь же, в глубине лунной ночи, мучали меня запечатлевшиеся в памяти, казалось бы, второстепенные строки начала гоголевской повести, которые описывали картины, висящие в окнах, на стенах и дверях лавки, толпящийся народ, и особенно одну: на ней изображен был "город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска…"
Не знаю, что более изводило меня?
Толпа ли?
Я видел солдатиков в обнимку с молодыми деревенскими бабами, нас, мальчишек, торговок-молдаванок, летом и зимой закутанных в шали и десятки юбок, накапливающихся на рынке, боязливо и в одиночку просачивающихся в городские магазины, неуклюжих, пропахших козлом крестьян, наглостью прикрывающих неловкость, прущих напролом сквозь городскую толпу, и все мы вместе с одинаково-равнодушным любопытством глазели на избиения, голод, гибель, которыми мерзко изобиловала окружающая нас жизнь?
Иерусалим ли?
Он воспринимался мной как нездешнее видение, и вдруг возник, отмеченный так по-земному, домами и церквами.
Невидимый плен моего существования был мучителен, но уже ощущался самой сущностью моей жизни.
Половодье человеческих глаз по-рыбьему равнодушно мерцало в этих бледных видениях, расступалось тающим паром перед прожигающим ужасом глаз гоголевского "Портрета": это были вечные глаза соглядатая и заушателя, скрытые в любой тьме, за любой стеной и ширмой, да и за человеческим лицом: как бы ты себя ни вел, ты был у них на виду, ими судим, а сам их не видел, и знал, что несут они лишь разор, острог, гибель.
Ознакомительная версия.