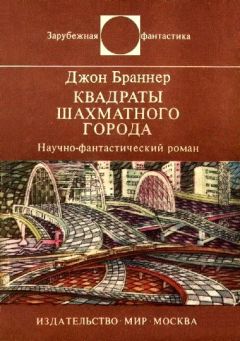Я наклонился к нему, чтобы извиниться. Боба стремительно закатился под койку, и поэтому третий залп его миновал.
Я гонялся за Бобой, чтобы объясниться, а он метался от окна к двери, приседал, забегал за шкаф и оставался нетронутым в абсолютно заблеванном номере гостиницы «Тбилиси» на улице Руставели.
— Сынок! — кричал он и хохотал. Как же он хохотал! Все навыки бойца переднего края (а Боба воевал, и хорошо воевал в Великую Отечественную!), всю готовность сапера к любым неожиданностям (а Боба был сапером) применял он и уходил от моего бомбометания.
Мы оба обессилели. Я уже не мог ничего сказать. И Боба ничего не говорил. Он плакал от смеха. Слезы текли по его щекам и сотрясали все его тело.
Рассвет наступил окончательно.
Внутренний дворик, накрытый сверху витражами, осветился. Солнце пробило цветные стеклышки. Там, внизу, показалась фигура в грязном белом фартуке и широкое лицо с усами. Лицо крикнуло, и внутренний дворик мощным эхом подхватил этот крик.
— Ма-на-на! — крикнуло лицо. — Модияк! Мо-ди-як, Манана!
И тут мы оба повалились на пол, лицом вниз, чтобы досмеять весь этот ком… шар… пузырь смешного, где смешнее всего были мы сами.
Смеющимся я Бобу больше не видел. Разным видел. А смеющимся… — нет, больше не видел.
* * *
— How do you do? This is me, — сказал я в трубку.
— Сынок! — раздался голос Бобы. — Приехал?
Я приехал в Нью-Йорк через тридцать лет после наших тбилисских блядок и через десять лет после Бобиной эмиграции.
Эмиграция у него была по полной программе — исключение из партии (а Боба с войны еще был коммунистом), осуждение товарищей, лишение наград (а у Бобы с войны были боевые награды) и т. д. и т. п. Я рад, что жил тогда уже в другом городе и всех Бовиных испытаний не видел. Только слышал о них.
Щелкали годы. Я в Америку (естественно!) не выезжал. Боба из Америки (естественно!) не приезжал. Вообще говоря, стало казаться, что жизнь завершилась (что тоже естественно — мы же заранее знали, что она не бесконечна). Но вот какая штука: оказалось, что завершилась «та жизнь» и началась какая-то другая.
Я стоял на углу Седьмой авеню и 53-й стрит, недалеко от моего отеля, и ждал Бобу. Увидел издали. Боба двигался в толпе прогуливающейся походкой. На нем была светлая кепочка. Боба поглядывал по сторонам и периодически цыкал языком, слегка кривя рот налево. Видимо, в зубе была дырка. За прошедшие годы Боба сильно помолодел и, я бы сказал, как-то упорядочился. Некоторая суетливость движений, которая была свойственна ленинградскому Бобе, абсолютно исчезла. Фигура стала более вертикальной, не оставив и следа от прежней, если можно так выразиться, крючковатости. По нью-йоркской улице двигался совершенно нью-йоркский господин добротного пенсионного возраста в белой кепочке и в зеленой бобочке (по погоде). Господин этот никуда не торопился. Потому что хорошо знал дорогу и заранее продумал, куда он идет, зачем и в котором часу прибудет к месту назначения. Ну, совершенно иностранная фигура. И все-таки человек в белой кепочке и зеленой бобочке был не кто иной, как Боба.
Внимание! То, что вы читаете, не является документом! Так что не вздумайте придираться к деталям. А то, понимаешь, найдется какой-нибудь друг-приятель и начнет нудить: дескать, не было у Бобы зеленой бобочки, а носил он бледно-голубую рубашку с рукавами, и зубы он залечил, а потому не цыкал на левую сторону… Вот я и говорю: ЭТО НЕ ДОКУМЕНТ! Я могу в чем-то ошибаться. Мне говорили, что я дальтоник и плохо различаю цвета. Возможно. И память может подвести — сколько лет прошло! И мы ведь живые люди, а не компьютеры. Мне не раз говорили, что я все путаю. Возможно. Я не буду возражать. Я уважаю чужое мнение. Это так! Но, черт вас всех возьми, я-то точно знаю, что Боба шел в белой кепочке и зеленой бобочке по городу Нью-Йорку, и шел так, как будто он тут и родился, в этой бобочке. И Боба цыкал зубом! Это точно! Может быть, не тогда, может быть, в другой мой приезд, еще через десяток лет, а может быть, в Москве, куда он в результате наведался, — все может быть! Но зубом он цыкал!
И вот еще на что хочу обратить я ваше внимание. Удивительное дело. Я много видел наших эмигрантов, так или иначе, все они жались друг к другу. Ну, кроме тех, что выскочили в богачи или в большие люди (такие есть, но таких мало). Те, естественно, сами по себе — на фиг нужно опускаться до заурядного мелкого кишения? Но Боба ведь не стал ни богачом, ни большим человеком. И однако, он тоже умудрился С САМОГО НАЧАЛА послать это кишение на фиг!
Вы спросите — как это ему удалось? Отвечаю — а черт его знает! Вы скажете — может, он, в отличие от других, еще в России свободно говорил по-английски? Не смешите! (Впрочем, об этом позже.) Или, может быть, он вывез из Ленинграда в подошве ботинок бриллианты покойной Бабы Берты? Оставьте! Как говорится, из драгоценностей у Бабы Берты было только золотое сердце, это как максимум. И как минимум тоже. Ну так что? Как это? Как это получилось? Я вам уже сказал: понятия не имею!
Знаю — пожилой Боба развозил пиццу, служил посыльным, подрабатывал в массовках кино… Да не буду я вам все это рассказывать — тысячу раз все это уже переговорено.
Я вам другое скажу. ТРИ ПУНКТА:
Пожилой Боба
а/ Женился (опять!)
Ь/ Женился НА БАЛЕРИНЕ (опять!)
с/ Жена его — балерина была американкой и НИ СЛОВА не знала по-русски!
Ну? Теперь вы поняли, почему стоит читать этот рассказ про Бобу?!
* * *
К моменту той нашей, первой после перерыва встречи Боба стал (это кроме того, что женился на американской балерине), Боба стал профессором и LANDOWNER (то есть владельцем поместья).
Наверное, читателю ничего не остается, как только воскликнуть: «Ого!» Вот и я сделал то же самое.
— Ого! — воскликнул я. — Бобец, так ты полностью на полке! Имеешь мягкого вагона и плацкарт до конечной остановки!
— Сынок! — скривился Боба и цыкнул зубом. — Это Америка! Тут все может быть. Но тут все иначе — не как у вас.
Боба был первым, последним и, коротко говоря, единственным эмигрантом, который про Россию говорил «у вас», а про Америку — «у нас». Так вот, профессор в Америке это «не как у вас». Это не то что — сперва кандидат наук, потом доктор наук, диссертации, защиты, печатные труды и прочая хрестоматия на десятки лет, а то и на всю жизнь. В Америке профессор — тот, кто учит. Кого учит, чему учит — это второй вопрос. Учит! Значит, профессор.
Боба учил, худо-бедно, в Нью-Йоркском университете. Он преподавал «Кино и актерское искусство». Этот курс был в сетке предлагаемых факультативов, и курс этот «was taken» (был взят) каждый год некоторым количеством людей. У нас (на этот раз у нас с вами, в России) Боба снимался в кино в эпизодиках, в небольших ролях, и иногда очень симпатично. На сцене тоже играл роли небольшие, а в последние годы, прямо скажем, в одних массовках, что было горько, может быть, и несправедливо, но такой вышел расклад в нашем знаменитом театре.
Вы спросите: знал ли Боба кино и актерское искусство, знал ли Боба эти дела настолько, чтобы преподавать их в университете? Я вам отвечу так, как он ответил мне: «Сынок, это Америка! Тут все может быть!» А еще я вас в свою очередь спрошу: а у нас (у нас — в России!), с нашими диссертациями, степенями, утверждениями, проверками, — ВСЕ, кто преподает, знают толком, чего они, собственно, преподают? Как-с? Некоторые знают? Ага… а другие некоторые? Говорите, по-разному? Ну вот и снимем эту проблему! К тому же в Америке все русские считаются прямыми учениками Станиславского и знатоками его загадочной системы. Каждый дурак знает, что румыны играют на скрипках в ресторане, индусы занимаются йогой, а русские лудят систему Станиславского. Не Бог весть что, но некоторую ценность это имеет. Это, как здесь говорят, «аутентично» — из первых рук! Надо брать!
— Сынок, — говорил Боба-американец, — здесь свободная страна. Кто чем хочет, тот тем и занимается. Можешь целый день стоять на голове. Можешь лежать в гамаке. Если кто-то оплатил этот гамак, можешь лежать. А можешь записаться ко мне на факультатив. Ко мне ходят пара-тройка черных, двое желтых, один красный, в смысле такой… марксист, он пуэрториканец, и голов шесть белых, но тоже с разными оттенками. Здесь свободная страна — какой цвет имеешь, такой и имей. А хочешь, можешь поменять, пожалуйста, но тогда надо очень много бабок. Надо иметь тугой кошель, как Майкл Джексон.
Знаешь, почему они ко мне ходят? Это для них экзотика. Они слово «театр» никогда не слышали. «Кино» — знают, «балет», «мюзикл» — знают. «Театр» — понятия не имеют! Я им рассказываю про БДТ, про МХАТ, про Станиславского — слушают, открыв рот, и… не верят! Думают, либо я вру, либо плохо по-английски говорю и сам не соображаю, что несу. А потом пишут на меня доносы. Здесь свободная страна, сынок! После каждого семестра они все пишут декану, как им понравился профессор. И одна сучка каждый раз пишет, что я говорю непонятно! Кончится тем, что меня уволят. (NB — как в воду глядел!) Но, правда, есть и другие. Я с ними начал делать чеховские рассказы. Они прямо обалдели: как это? Сперва один говорит, а потом другой? Не налезая друг на друга? Потрясающе! Это называется «Система Станиславского»? Потрясающе! Есть у меня один — играет во всех рассказах. Я такого неспособного для сцены человека даже в страшном сне представить не мог. Совсем бездарный! Он в prison, как это по-русски?.. prison… — тюрьма! Он охранник в тюрьме! Они же все где-нибудь работают. А университет вроде вечерней школы. Драмкружок! Так вот он все время приходит из своей тюрьмы и жутко играет рассказы Чехова. Я ему сказал уже, не раз сказал: «Garry, слушай, не ходи сюда, зачем? У тебя хороший job — профессия, не надо тебе быть актером. Это дело у тебя не пойдет». А он на следующий семестр опять записывается! Сынок, это хорошо, что никто не приходит смотреть, как мы играем, а то бы… ой, прощайте, мамо, иду биться з румынцами, и хрена вы меня больше увидите! А эта сучка, Солли, она меня достанет, этим кончится! Каждый раз одно и то же пишет декану: «За весь семестр ни слова не поняла, профессор говорит на неизвестном языке!»