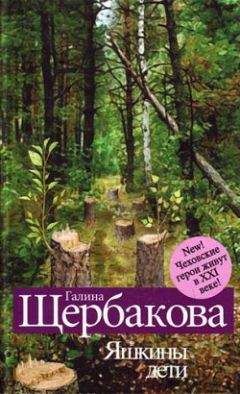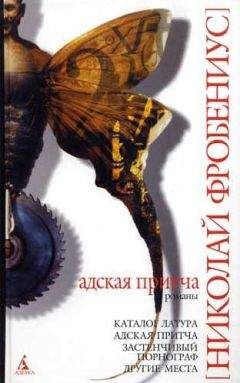Этот стоящий за забором барак явно ждал своих санитаров. Но тут отодвинулась доска в заборе, и из дыры вышла девочка в пальто с чужого плеча и с подвернутыми почти до локтей рукавами. Плечи пальто свисали низко-низко, в одном модном журнале она даже видела такой крой, и ей он не понравился.
Значит, в черном бараке люди еще были.
Ей было уже почти пятнадцать, и она помнила коммунальный скарб бараков. И еще ей рассказывала бабушка.
– В коммуналках жили почти все. И в них все зависело от людей. Одни жили дружно, помогая друг другу в трудную минуту, а таких минут, детка, было не счесть. Другие же сварились, подсыпали друг другу в кастрюли гадость. Дрались. Я жила и в такой, и в такой.
И тут, как из бабушкиного прошлого, вышла эта девочка.
– Ты из новоселов? – спросила девочка.
– Я с парадного, – ответила она и засмущалась, ибо не хвалилась, а просто указала географическую точку своей жизни.
– А из какой квартиры?
– Из тридцать второй.
Девочка задумалась, будто что-то считала.
– Значит, из тридцать второй и третьей. Вы же две квартиры захватили?
– Мы не захватили. Мы купили за деньги.
Почему-то ей стало вдруг стыдно, будто она сделала что-то не то.
– Мы жили в тридцать третьей, – сказала девочка. – В коммуналке. А сейчас вот тут, в бараке. Нас тут три семьи осталось. Наша, тети Нюрина и безногого летчика. Героя, между прочим. Но он пьяница. Мышей – полно. А кошки нынче, говорит моя бабуля, балованные, забыли, зачем их бог создал, – не ловят. У вас, конечно, мышей нет. У богатых, это тоже говорит бабуля, нет мышей, нет болезней, но и совести тоже нет.
– Неправда, – сказала она. – Мой папа труженик. Каких еще мало. Но их будет все больше.
– А что он делает?
– У него бизнес.
– А! – сказала девочка. – Он делает деньги из людей и нефти.
– Нет! – топнула она. – У меня очень хороший папа. Вот сейчас он руководит рабочими, чтоб привели в порядок двор.
– Это у него такие? – девочка показала, какие у папы полоски из волос на подбородке.
– Да, он у меня красивый.
– Он тут говорил, что если мы не съедем в Бутово, нас здесь потравят вместе с мышами.
И она услышала, как он это говорит, ее папа. Как слово «потравят» он четко делит на три слога. Он всегда, когда злится, делит слова на слоги. Мама смеется: «Я даже не могу на тебя злиться. У нас в институте был преподаватель. Так он говорил так: маркс-изм. Ленин-изм. И он так ударял на изме, что все просыпались».
– Тебя как зовут? – спросила девочка.
– Дуня, – ответила она. – А тебя?
– Анжела, – ответила девочка.
Большие девочки, они были маленькие, чтобы увидеть весь комизм ситуации: куколка Дуня и вся в обносках Анжела.
– Ты не русская? – спросила Дуня.
– А кто ж еще? Это ты про имя? Мама мне искала имя счастья. Чтоб ни у кого такого и бог меня заметил. Пока что нет…
– Чего нет?
– Бог пока не заметил… Бабуля говорит – мы падаем на дно. Опять барак, а в Бутове опять коммуналка будет.
Дуне хотелось плакать, хотя Анжела была вполне хорошенькая и бодренькая даже в таком виде, а она, Дуня, даже в своем кожаном пальто с песцовой оторочкой, была супротив нее курносой и конопатой.
Из проема в заборе вышли две кошки и прямо на глазах девочек стали бить друг другу морды в буквальном смысле слова. Они были абсолютно одинаковые, рыжие, худые, с безумными зелеными глазами. Сестры, наверное, или мать и дочь.
– Уня! Ты где? – услышала она голос отца. – Сейчас же домой.
– Почему Уня? – спросила Анжела.
– Я маленькая не выговаривала «д». Так и осталось.
– Ты пойдешь в нашу школу?
– Нет, кончу восьмой в старой.
– Значит, не увидимся, – сказала Анжела. – Твой папа нас вытравит, он ведь у тебя слово держит, у них здесь запланирована волейбольная площадка. Из Бутова в школу сюда не наездишься.
– Но зато у вас будет нормальное жилье.
– Две комнаты на четверых? С нами еще и прабабушка. Она Ленина видела, – засмеялась Анжела.
– Да? – удивилась Дуня.
– В гробу! – смеялась Анжела. – Она родилась в день его смерти. Смеется, что они по дороге встретились, он туда, она – сюда. Она смешливая у нас, придумала, что это он ей крикнул: «Верной дорогой идете, товарищи!» – И Анжела смеялась во весь голос.
Дуня не понимала причины смеха. Вот ударение на изме – это хохма. Звучит смешно.
– Ладно, – сказала она. – Я пойду.
– Иди. Привет стенам.
Дуня снова ничего не поняла. Стенам чего? Стенам каким?
Ночью ей снилась Анжела. Она вошла в комнату и стала обдирать повисшие обои.
– Вот тебе! Вот тебе! – говорила она, и снова Дуню охватило чувство вины, и она плакала ночью, слушая мышиный писк, одновременно думая, что маме ничего нельзя рассказывать, на самом деле потащит к психиатру.
Утром, провожая ее в школу, бабушка сказала:
– Ты осторожней, детка, с выбором знакомых. Береженого бог бережет. Тут такой случай, когда кошкам могут отлиться мышкины слезы.
– Они так дрались, кошки во дворе.
– Я тебе не про кошек, Уня.
В холле она снова споткнулась о невидимый Нюркин сундук, но заплакала уже в лифте. Испугалась то ли психиатра, то ли невидимых миру своих слез. Одновременно почему-то – и мышкиных.
Типа послесловие, которое после, но и до одновременно
В ночь с 7 на 8 ноября 2007 года с автором этой книжки случилось странное: привиделся не кто-нибудь, а сам Иван Алексеевич Бунин. Впрочем, может быть, на сей казус и не стоило обращать внимания, если бы не одна история, происшедшая десяток лет тому назад и тогда же правдиво мною изложенная в нижеследующем тексте.
«ВАШЕ ВЫСОКОБЛАГОРОДИЕ! БУДУЧИ ПРЕСЛЕДУЕМ…»[1]
Небеса
Райские кущи
Ивану Алексеевичу БУНИНУ
Глубокоуважаемый Иван Алексеевич!
Пользуюсь оказией и через вернейшего человека передаю Вам письмо с родины-отечества. Тут Вас по одному несчастному случаю, можно сказать, задушили в объятиях любви. А то вы нас не знаете? Мы же по части любви до смерти первые на земле (правда, и по ненависти тоже). И я, так сказать, этими объятиями Вас была придавлена до момента полного удушения. Хотя, конечно, лестно невероятно быть придавленной к Вам… ни с чем не сравнимое чувство. Дело в том, – так пишет «Общая газета», редактор там милейший, обожаемый мной умница, – что «грамотный человек имеет уникальную возможность прочитать еще одну „Митину любовь“ – повесть Галины Щербаковой (это я, великодушный Иван Алексеевич! – Г. Щ.), под вызывающе бунинским названием» (Господи, прости меня грешную!). «Два мира, два Шапиро – шутили в застойные времена», – скорбно сообщает газета.
Вам с одного раза такое не понять, Иван Алексеевич! Позволю себе пояснение. Ну, это типа: два мира – два детства; у нас – и у них, разведчик – шпион и другие неразъемные понятия. А Шапиро, как ему и полагается, у нас всегда под языком. Вы, Иван Алексеевич, поясню, хороший Шапиро, а я, значит, – нет. Вам нравится быть хорошим Шапиро? Мне-то ничего, я вполне за… и меня, скажу Вам, не «нет» в этом случае беспокоит, а то, что я все-таки дама. Я вообще эти дела по перемене пола не приветствую.
И потом… У меня внуки…
Но продолжаю. «…Неплохо бы витальной любимице „Нового мира“ – за последние два года – рекордное количество публикаций, куда там Токаревой (а ее-то, голубушку, за что прижали? Она-то что плохого Вам сделала?.. И мне ничего! – Г. Щ.), – одаренной речистой наблюдательностью и способностью наделять безликие слова запахом плоти… в следующий раз появиться с „Войной и миром“, можно и с „Идиотом“ – хорошее название, между прочим».
Меня как по голове ударили. Витальность мою как корова языком слизала. Я с ней и гербалайфом боролась, и антоновские яблоки килограммами ела – и ничего. А тут чувствую – уходит моя витальность струйкой дыма, прямо в форточку, в сиянье дня. И так обидно, Иван Алексеевич, столько недоделанного… газета правильно отметила мои притязания. Роман вот хороший писался. «Вишневый сад» называется. Главный герой – Епиходов. Жена у него – Ольга Ларина. Сада, конечно, никакого. Откуда? Если у них пятый этаж геопатогенного дома на 2-й Новоостанкинской? Там вообще живое не живет. Но если подумать, а где ему жить, Епиходову?.. Хотя Антон Павлович может сильно рассердиться. Он ведь так просил меня, так просил, ты, говорит, сделай ему хорошо, ну, чтоб не все время неудачник. А у меня никакого счастья для него не получается. Теперь если и Антон Павлович на меня топнет, то автобиографический триллер «Идиот» мне уже точно не написать. Вся надежда – может, отлежусь?
Вот вчера от вашего гнева была труп трупом, о потустороннем стала думать, как там у Вас отбрасываются тени… Я ведь не просто залезла к Вам в карман, я еще и тень Вашу, оказывается, «потревожила». Так как мне «все до звезды» (мои слова, мои!), то мы, конечно, никогда с Вами не встретимся, я буду в других пределах. Обидно и горько. Я Вас и Антона Павловича всегда любила больше, чем Гомера. Я так на эту тему заплакала, а тут в кухне крышки посыпались. Шум такой специфический. Подумала: всё. Это уже оттуда. Копыта. А на самом деле, слава тебе, Господи, Епиходов пришел и все свалил. Пока я навела порядок, гляжу, витальность моя, что улетала струйкой дыма, из той же форточки комковато так ко мне же возвращается. Ну, думаю, «Идиот» не «Идиот», а «Вишневый сад» все-таки закончу. Села я за стол и стала «наделять безликие слова запахом плоти». Только левое плечо что-то у меня все дергается и дергается. Иван Алексеевич! Не поверите, но левое плечо открыло мне суть вещей.