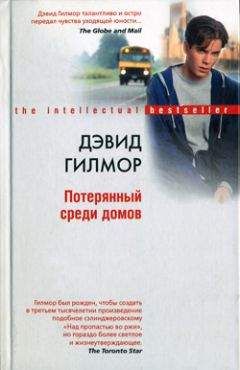Как обычно, мама первой отправилась его повидать. Я ждал снаружи. Смотрел на старую Клеопатру, бряцающую по коридору в драгоценностях и с сигаретой в длинном мундштуке. На самом деле она была довольно дружелюбной. Очень болтливой. Может быть, она была выпивши. Я полагал, что любящие детки сунули ее сюда, потому что ее было чересчур много, чтобы держать дома. Я хочу сказать, что пятнадцать минут было вполне нормально, но невозможно представить, чтоб это являлось к тебе на кухню в восемь часов утра. Я хочу сказать, есть одна вещь в сумасшедших людях: у них так много энергии, они всегда настроены на что-то, проекты, преобразования. Все такое. Она, между прочим, не теряла времени даром и сообщила мне, что ей нужно поговорить с доктором о чем-то, что происходит во Франции.
Десять минут прошли. Из комнаты моего папаши не раздавалось ни звука, даже никто не выглянул. Я не знал, что они там делают, и начал испытывать неловкость. Сестры смотрели на меня, проходя мимо. Так что я пошел бродить по коридорам. Там было много струящегося света, записанной музыки и все очень цивильно. Но когда я свернул за угол, то услышал стон, идущий из-за двери, по-настоящему ужасный, стон конца света, словно хотя бы одну из сумасшедших личностей не волновало, что о ней подумают. Это было так больно, словно смотреть, как рождается животное, и бояться, что из тебя вырвется «мать-перемать». Я заторопился обратно к комнате отца. Я не стал ждать, нет, я просто ворвался в дверь.
Мама сидела на кровати, держа его за руку, и я слышал, как он сказал: «Во мне больше нет уверенности». Потом он увидел, что я стою там, и обычное выражение нетерпения и раздражения проявилось у него в лице. Он тут лее закрылся.
– Одну минутку, – сказал он, словно я был идиотом, словно я вломился на свадьбу весь в джеме и кошачьей шерсти. – Твоя мать побудет здесь.
Я снова вышел в коридор, немало оскорбленный. Когда меня отталкивают вот так, у меня в теле появляется ощущение какой-то металлической пустоты, и я не могу избавиться от него, пока не пожалуюсь тому человеку, который заставил меня это чувствовать. Но с моим папашей… Он был человек старой школы, если я об этом не упоминал – он не считал, что я имею права возражать. Так что вам никогда не удалось бы сделать это с ним. Он делал вас больным от ярости и полным планов проткнуть его вилами.
Я взглянул на медсестру, которая смотрела на меня. Даже моя осанка изменилась. Я прислонился к стене и скрестил руки. Это, во всяком случае, было нечто знакомое. Потом я вспомнил почему. Именно так я стоял в коридоре, когда меня выкидывали из класса за то, что я козел. Точно таким же образом.
«О да, вот на что это похоже, – подумал я про себя. – А ведь одну секунду мне казалось, что я по-настоящему по нему соскучился».
Через несколько минут мама, дрожа от волнения, выбралась наружу, встревоженная и улыбчивая, пытающаяся сделать вид, что все в порядке.
– Он чувствует себя не очень хорошо, – сказала она.
Я фыркнул. Я не должен был этого делать, но я фыркнул. Это было частично для того, чтоб наказать ее за то, что она не взяла мою сторону, за то, что не вмешалась. Я вошел.
Отец лежал на кровати в синей пижаме. Его лицо было серым, руки сложены на груди, словно окостеневшие. Натурально он ничего не сказал о том, как пнул меня несколько минут назад. «Прости» было бы трюком, я бы растаял от изумления; я бы растаял и от признательности, потому что это освободило бы меня от чувства, что грудь стягивает ремень.
Он спросил меня о школе, о тесте, который я прошел неделей раньше. Там был равнобедренный треугольник, но с ошибкой. Из-за машинописи. Так что вместо того, чтобы проблему решить, я доказал, что ее невозможно решить.
– Охо-хо, – сказал он. – Это хорошо. Это очень хорошо.
Он не слышал ни одного траханого слова, которое я говорил, любой дурак мог это видеть, и я немедленно почувствовал себя униженным оттого, что снова позволил ему играть собой, словно сосунком, что приехал сюда, думая, что он будет рад меня видеть и все такое. Но нет, он просто выставил меня дураком, как обычно.
– Приятно было тебя повидать, – сказал я.
Мы пожали руки. Я вернулся обратно в коридор. Мама стояла там и курила.
– Как все прошло? – спросил она.
Я рассмеялся.
– Не будь таким, – поспешно сказала она. – Это так непривлекательно.
Я переждал пару ударов сердца. Я чувствовал, как мое лицо искривляется. Словно мускулы двигаются по своей воле и разумению.
– Да, не заставляй меня приезжать в следующий раз, – сказал я.
В тот вечер я пригласил чертову тучу народу. Часть меня была готова к тому, что они скажут: «Вечеринка? У тебя дома? С какого перепугу я пойду к тебе на вечеринку?!» Но все пошло не так, совсем не так. Мама была права. Людям нравится, когда их приглашают, даже если приглашает козел, не то чтобы я был таким, но если бы у них был выбор, они бы скорее предпочли пойти, чем если бы их не пригласили. Это вроде победительной движущей силы, это обзванивание людей, и к концу это набирает настоящую скорость, словно гонки или что-то вроде того. В этом было столько силы, что я даже позвонил нескольким людям, которых не собирался приглашать. Что за черт, думал я, вечеринка на самом деле – только предлог, чтобы осуществить это. Я продолжал проделывать ту же шутку снова и снова, словно по наитию.
– Привет, Леонард, – говорил я, – не то чтобы я ожидаю, что все придут, но я устраиваю маленькую вечеринку. – И потом я смеялся, словно никогда не говорил этого раньше. Что было хорошо, пока я случайно не позвонил ему второй раз.
– Я уже это слышал, – сказал он.
Большинство ребят не обратили бы на это внимания, но не Леонард. Я успокоил себя тем, что он всегда был чересчур точным.
Девушек я оставил на потом. Первой позвонил Сюзан Фэйрли, у нее была ко мне пламенная страсть, односторонняя страсть, могу добавить, но я знал, что она придет. Затем позвонил Адриен Мустард, дочке доктора, и сказал, чтобы она привела с собой Мэри-Энн Паркер. Потом пошли девочки из Епископской школы, Джейн Мартин и Родент, и Джейми Портер, которая позволяла делать с нею очень многое, если удавалось застать ее одну. И поскольку здесь все получилось, я стал звонить более трудным случаям – хорошеньким девочкам-католичкам, Памеле Метьюз, и Анне Кристи, и Синтии Макдоналд, которая была так красива, что пугала меня. Кто – то спросил меня, не сообщить ли о вечеринке Дафни Ганн, и я сказал, конечно, почему бы и нет.
В пятницу, в день вечеринки, я отправился домой сразу после школы. Мама, разумеется, все сделала. Она вертелась по дому, словно это была ее вечеринка.
– Я приготовила картофельные чипсы, крендельки, кока-колу, апельсиновую шипучку, сладкий соус, я знаю, ты его не любишь, но некоторые дети любят.
– А что в качестве зелени? – спросил я.
– Не будь таким недоброжелательным. Есть маринованные штучки. Ты не обязан их есть.
– Отсюда чувствую их запах.
– Тогда встань где-нибудь еще. Черт возьми, я забыла шляпы для вечеринки.
Мое лицо вытянулось.
– Я шучу, – мягко сказала она, словно ее оскорбило, что я мог такое подумать.
– Тебе лучше расслабиться, Саймон, – сказал брат. – Предполагается, что это будет праздник.
Я поднялся наверх, оставив маму хлопотать по хозяйству. Принял душ, высушил волосы ее феном, отчего они легли как надо. Пышно, но естественно. Я хочу сказать, чтобы никто не перепутал меня с Троем Донахью, но я бы знал, что все в порядке. Натянул жесткие черные слаксы и синий свитер. Он подчеркивает мои глаза, мама всегда так говорит. Побрызгался дезодорантом старика «Олд Спайс», но рубашка уже была на мне, так что пришлось расстегнуть пару пуговиц и побрызгаться под ней. Я беспокоился, не растреплется ли прическа оттого, что я так много двигаюсь. Наконец вычистил зубы и полоскал рот, пока не подавился.
– Господи Иисусе, Саймон, – сказал Харпер через дверь ванной. – Что, твою мать, здесь происходит?
Мама крикнула снизу:
– Харпер! Что за язык!
– О да, – отвечал он с балкона, – как будто братик никогда не слышал таких слов раньше.
– Это не имеет значения, – сказала она. Не разозлилась или что-то там еще. Просто уточнила.
Он промолчал, что было неплохо, потому что у него в запасе осталась еще одна остроумная ремарка, прежде чем она по-настоящему выйдет из себя.
Парочка ребят явилась до официального начала вечеринки. Они были разодеты в пух и прах, от них пахло мылом, дезодорантом и шампунем. Мы все были несколько возбуждены и не отрываясь смотрели друг на друга – целая вечеринка была у нас впереди, это опьяняло. Но в то же время, словно бы ниоткуда, у меня появились самые жуткие мысли, такие мысли, которые заставляют думать, что твое место – в сумасшедшем доме. Я представлял себе, как мама входит в мою спальню, в лице ни кровинки, и говорит: «Что-то ужасное случилось с твоим отцом, тебе придется отменить вечеринку».