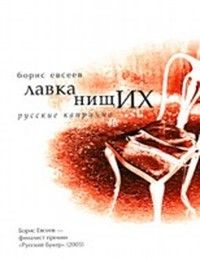– Кормишь, как зайца.
Эва-Эра пела и словно бы чего-то ждала. Костик, к этому ожиданию равнодушно прислушивался.
Песен у Эры было всего две. Первая про тетю:
Ой, напрасно, тетя,
Вы лекарство пьете
И все смотрите в окно...
Вторая песня – в общем-то песней не была. Скорей, стишком. Но произносился этот стишок на разные лады и с разными мелодическими вывертами. Из мелодий, на которые Эва-Эра клала этот стишок, Костику знакома была только «Неаполитанская песенка»: именно на ней кончилась его музыкальное образование.
Мелодию Костик знал, а вот стишка, произносимого Эрой, никогда раньше не слышал. Эва-Эра, заметив интерес, скороговоркой поясняла: «Я же филолог, должна многое знать, многое помнить», – и тут же запевала:
– вздрагивала она от стихотворной страсти,
– даже подпрыгивала на месте,
И покажет всем араки,
Где и как зимуют раки!»
Сперва Костику казалось: У Эры нет слуха. Но потом он понял: слух у его новой знакомой есть! И слух тонкий, необычный. Она почти полностью убирала из песни мелодию, добавляла декламационных взлетов-падений, и куплеты приобретали вдруг новый, необычный смысл. Да, это были стихи, но стихи, словно предчувствующие музыку. Костику, как будущему бухгалтеру, такое предчувствие нравилось. Чем-то оно походило на сладкое предчувствие полной сводимости годового баланса.
Но, с другой стороны, эти полупесни-полустихи звучали в устах Эры и явной насмешкой: над тетей, над японцами, над городом Нагасаки, над слушателем Костиком.
Словом, над всеми, кроме летчика Коккинаки. Это имя Эра в своем пении ясно выделяла.
– Дался тебе этот Коккинаки, – хрустел морковкой Костик.
– А что? Китайцам можно, а нам нельзя? Китайцы у нас на Солянке даже кафе открыли. Так и называется: «Китайский летчик Джао Да». А Коккинаки мне нравится сшибкой звуков. Да и Дальний Восток отдавать япошкам жалко.
Эва-Эра говорила, пела, летала, налегала во время полетов на Костика то бедром, то грудью.
Она пела в первый день и во второй. Пела и в третий, когда приехали врач и медсестра, а с ними два амбала-охранника. Пела она и после того, как Костику кротко и без нажима предложили поменять свой левый здоровый глаз на глаз искусственный.
Однако, теперь ее движения и песни стали осторожней, таинственней.
Неожиданное предложение Костик сперва принял за неумную шутку. Правда, когда его не выпустили во двор, отлучили от Эры, а потом и загнали в какой-то чулан, он понял: шуток шутить здесь никто не собирается.
День третий близился к вечеру.
Костик, ожидая новых наездов, сидел в чулане и время от времени сквозь тоненькую шкурку опущенного века, всеми пятью, собранными в кучку пальцами, ощупывал левое глазное яблоко.
Никаких наездов, однако, не случилось. Все – и доктор, и медсестра, и Эра (Эра уже в отдельной комнате) – по-деревенски рано улеглись спать. Костику постелили в чулане.
Стелила медсестра. Она внимательно, словно примеряя резиновую шапочку для ныряния, оглядела Костикову голову, хотела что-то сказать, но удержалась.
Костик забылся только под утро. А проснулся – от шума подъезжавшей машины. Он сразу все вспомнил и обрадовался:
«Тетя Поля! Может хоть она пару ласковых этой медбанде скажет!»
Но приехала вовсе не тетя Поля. Об этом Костику сказал врач. За ночь он как-то обрюзг и подобрел, даже похлопал будущего пациента по плечу:
– Никто вас неволить не станет. Отдайте глаз добровольно, и он вас озолотит.
– Кто – «он»?
– А вот сейчас узнаете.
В тетиполиной гостиной на корявом деревенском пеньке сидел маленький плаксивый старичок. Старичок чем-то напомнил Костику его самого. Может, тем, что был стар не годами, а какой-то тихой сопливостью, квелостью. Чуть приподнявшись с пенька, изображавшего стул, старичок хотел было высказаться, но не смог. Вместо этого, задрав голову вверх, посмотрел на Костика умоляюще. Тут Костик увидел: старичку едва ли за сорок.
Врач, внимательно наблюдавший эту бессловесную сцену, подошел к старичку, шепнул ему что-то на ухо. Тот сразу подобрался, выгнул спину, важно кивнул головой.
– Он очень, очень вас просит, – сказал доктор, перебирая пальцами краешек своего лазоревого халата. – Господин Поль-Жан не может этого вам сказать, но он очень просит.
Доктор попытался зажечь спичку – та сломалась. Тогда, помахивая в воздухе незажженной сигареткой, описывая ею замысловатые круги и даже восьмерки, доктор пояснил:
– Нет-нет. Вы не подумайте ничего такого. Господин Поль-Жан просит глаз не для себя лично. Хотя ваш глаз ему очень и очень подошел бы. Он просит глаз для своей люксембургской лаборатории, будь она неладна! Представляете, этот хрен – да не тушуйтесь вы, он по-русски ни бум-бум, – так вот: этот хрен открыл у себя лабораторию живых автономных органов. Живых и автономных, понимаете? Они у него там в Люксембурге живут своей, отдельной от отторгнутых тел жизнью. Дьявол его разберет, что это еще за автономная жизнь такая будет! Ну в общем, приехали: теперь через наших медицинских и не только медицинских бугров, он эту идею у нас продавливает. Но первое его условие: это, ясное дело, соблюдение прав человека и всех, без исключения, его органов. Так что – добровольность, Константин Батькович, только добровольность!
Доктор перестал ломать спички, добыл наконец огонек, прикурил.
– Но добровольность эта очень и очень хорошо подкреплена. Охранники – интеллектуалы и прекрасно тренированы. Медсестра – мастерица гипноза. Да и я, – доктор мощно потянул в себя дым, как лошадь из ведра воду, – да и я сам, поверьте, кой-чего стою. И поэтому, – устав от уговоров, доктор стал понемногу серчать, – и поэтому, дорогой мой, вы уж думайте поскорей. Сказал же – озолотит! И потом – наука. О ней тоже подумать не грех!
«Видал я вашу науку», – хотел было покрепче выразиться Костик, но тут приехала тетя Поля.
– Апполинария Львовна! – залепетал, волнуясь, подопытный, – как славно, что вы приехали... Вы же не позволите у вас дома... Такие вещи творить... Я уважаю дом и хозяев... Я..
– Уймись, щенок! Пор-рву! – рявкнула весело тетя Поля. – Дом у меня, и правда, что надо. И кой-чего этот дом повидал, уж поверь мне. Так что – уймись и соглашайся. Тебе же толком объясняют: люди за три тысячи верст ехали. Благодарить, собака, после будешь. Да что я, даром, что ли, спецхолодильник сюда везла?
– А мы... мы, в свою очередь, гарантируем вам полноценный период привыкания. – Доктору видно стало не по себе от тетиполиных резкостей.
– Какой период? – Костик чувствовал: его ломают и переломят-таки пополам.
– А такой: походите вы три дня с вынутым глазом. Попривыкните, психологически настроитесь. Помните детскую поговорку? «Я тебе глаз на противогаз – и выйдет телевизор!» Так примерно произойдет и в вашем случае. Мы вам – приборчик. А вы все, что ваш глаз, освободившись от вас, узрит – как в телевизоре, увидите! И вообще: без глаза ваш организм такие возможности в себе откроет – что ой-ой-ой!
Ну и последнее: через три года и при определенных обстоятельствах, мы можем ваш отдохнувший и набравшийся опыта глаз, вернуть на место...
– Подписывай, щенок, – сказала тетя Поля и выложила на некрытый деревенский стол четвертушку бумаги.
Костик прикрыл глаза рукой.
«Может, согласиться? Ну, буду опять считать. Дебет с кредитом сводить. Но можно ведь и одним глазом все эти цифры отслеживать. Да, а в это время глаз будет где-то путешествовать? Ну нет. Это неприятно. И вообще: какая наглость, органы от человека зазря отделять! Хотя... Если деньги действительно большими окажутся, то бухгалтерию можно и похерить. Свои собственные денежки – сил и внимания потребуют... Чужие-то считать не слишком сладко!»
– Сколько? – вдруг поперек собственных мыслей выкрикнул, пуская петуха, Костик.
– О! Это совсем другое дело. – Доктор затушил сигарету о стол, выкинул ее в форточку, скоренько нагнулся к сидящему старичку, зашептал ему что-то в ухо.
Старичок, в знак согласия склонил голову, поманил Костика к себе, вынул из кармана и показал бумажку с начертанными на ней загодя цифрами. Потом из другого кармана достал кредитную карточку и взмахнул ею в воздухе.
Костик на миг снова сплющил веки. Потом подошел к столу, мигом нацарапал поперек четвертушки несколько строк и поставил подпись.
Слышно было, как где-то в глубине дачи поет и плачет Эва-Эра. Она запевала, посреди пенья всхлипывала, потом, осердясь на малое семейное предприятие, организованное совместно тетей Полей, внятно ругалась.
Остальные, потрясенные внезапным Костиковым согласием, молчали.
В это время вошел еще один медработник в колпаке и в халате, с красивой донорской колбой в руках. Словно в магазине он издалека продемонстрировал колбу и улыбнулся.
– Быстрей, – крикнул доктор, – начинаем готовить пациента. Европейский наркоз ему!