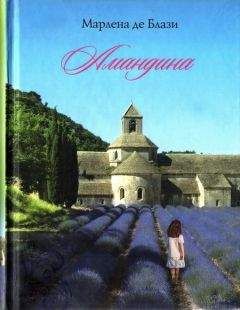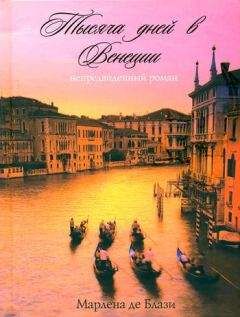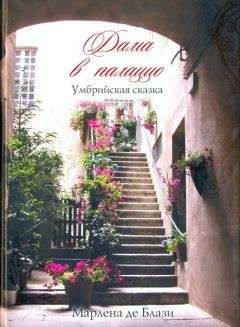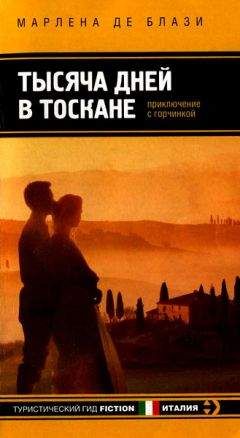Думая, что графиня последовала его примеру и пошла переодеваться к ужину, полковник играл на фортепьяно, ожидая ее.
— Перенесите ее в комнату. Свяжитесь с медиками, скажите им, что я нуждаюсь в их помощи.
— Полковник, там, там… Раненые… хаос, бомбы, сопротивление…
— Оставьте нас.
Полковник Дитмар фон Караян встал на колени у кровати графини. Теперь он мог оценить степень повреждений. Все понял. Он обнял ее, шепча нежные слова, прижал край простыни к ране и молился. Она открыла глаза.
— Вы слышите меня?
Ее голос доносился как будто бы издалека.
Он положил ей голову на грудь.
— Я прошу вас… Моя дочь…
— Ваша дочь будет в безопасности…
— Вы должны сказать моей дочери. Ребенок не умер, ребенок не умер. Я оставила ее там с… Она не умерла. Я отдала кулон, ожерелье Анжелики. Ребенок не умер. Скажите ей. Вы должны сказать ей.
С прискорбием я сообщаю Вам о скоропостижной смерти Вашей матери вечером 22 июня, в результате ран, полученных во время теракта на Рыночной площади, за который взяла на себя ответственность Армия Крайова. Возмездие грядет. Осмелюсь советовать Вам не ехать в Краков, пока ситуация не нормализуется. Но есть вопрос, не терпящий отлагательств, о котором я должен переговорить с Вами. Прошу ожидать моего прибытия
в Париж в течение следующих двадцати четырех часов. Ситуация не терпит проволочек.
Искренне Ваш, Дитмар фон Караян
Если горничная стучит в вашу дверь на рассвете и молча протягивает вам телеграмму, в то время как вы еще не можете отойти от сна, бесспорно, это Анжелика понимала, в ней могут быть только новости о смерти Януша.
Она бросила нераспечатанную телеграмму, спрыгнула с кровати, схватила горничную за плечи и закричала:
— Я же пыталась отговорить его! Я пыталась, Баська. Я просила его подождать. Януш, Януш. Откройте это, Баська. Откройте за меня, пожалуйста. Я не могу, я не могу сама.
Шок, неверие, острое желание отсрочки. И затем новый ужас. Не Януш. Януш не мертв. Это — Matka. Matka мертва. Моя мать мертва. Как же это может быть?
За прошлые месяцы Валенская часто писала Анжелике о полковнике. О нем и его окружении, об их мирном сосуществовании во дворце. Тем не менее была какая-то неправильность, странность в том, что именно полковник Вермахта сообщил ей о смерти матери. Акция польского сопротивления. Телеграмма, написанная на французском языке. Возможно, это неправда, своего рода уловка, злая шутка, но зачем?
Анжелика послала сообщение Янушу в полк, попросила взять отпуск и приехать. Она шагала по комнатам, лелея абсурдную мечту, что он приедет и все закончится, поскольку ее мать не может умереть. Валенская-Чарторыйская, несокрушимая графиня Чарторыйская, moja piekna matka, моя красивая мать, кто угодно, но только не она.
Был поздний вечер 26 июня, когда консьерж позвонил, чтобы сообщить, что полковник Дитмар фон Караян ожидает в холле.
— Княгиня, прошу прощения, что прибыл практически без уведомления, но путешествия в наши дни не дают возможности соблюдать правила приличия…
Полковник поклонился, поцеловал Анжелике руку и посмотрел ей прямо в глаза.
— Я также надеюсь, княгиня, что вы простите мне мою самонадеянность, если я скажу, что ваше горе — и мое горе.
— Моя мать часто писала о вас. Она хорошо отзывалась…
Анжелика, прежде чем выйти, успела лишь завернуться в халат мужа и сейчас бы предпочла одеться, обуться, сделать что-нибудь с волосами и опухшими глазами. А он хорош собой, вне зависимости от того, что его сюда привело, подумала она.
— Простите, у меня сейчас нет сил выслушивать подробности произошедшего, того, чему вы были свидетелем. Я связалась по телефону с епископом Матеушем…
— Я приехал не за этим. Вы не готовы слушать, княгиня, а я тем более не готов рассказывать. Я здесь только затем, чтобы передать вам последние слова вашей матери, она просила меня об этом.
— Меня зовут Анжелика. Моя мать просила что-то передать мне? Она успела рассказать вам о чем-то тем вечером?
— Вот ее последние слова…
Анжелика судорожно схватилась за подлокотник обитого малиновой парчой стула.
— Прошу вас, продолжайте.
Слово за словом, полковник повторил признание графини. Он как будто бы наяву слышал голос Валенской.
Анжелика обратилась в камень. Потом начала медленно раскачиваться на стуле. С опущенной головой, закрытыми глазами. Она плакала. Но не потому, что оплакивала свою мать и ей не надо было оплакивать мужа, она впервые плакала как женщина, сердце которой болит из-за ребенка.
Полковник призвал консьержа, чтобы тот помог отправить княгиню наверх. Прибежала горничная, и, поскольку они уходили, полковник коснулся плеча Анжелики и кивнул ей в знак прощания.
— Полковник, не будете ли вы так любезны, чтобы присоединиться ко мне через час? Я должна побыть одна, но мне хотелось бы выразить вам свою признательность, расспросить. Мне кажется, что моя мать завещала мне свою дружбу с вами.
— Она, должно быть, еще что-то сказала? Скажите мне еще раз, дословно, где она оставила девочку, с кем, где мой ребенок?
— Я больше ничего не знаю. Вы должны понять, что ваша мать никогда не рассказывала мне, никогда, до того момента, о вашем ребенке. Никогда. Она говорила подробно о вашем отце, о его связи с баронессой, об их трагической смерти. Она говорила о вас и вашем детстве, ваших талантах, вашей красоте. Она говорила о вашем муже, о ее радости по поводу состоявшегося брака. Но ни слова о ребенке. Только тогда, когда…
Они сидели в маленькой гостиной Анжелики, свет приглушен, высокие окна распахнуты в полночь к мерцающему Сен-Поль-Сен-Луи, к шороху Сены по камням Орлеанской набережной.
Баська порхала вокруг, накрывая чай, ставя перед полковником бутылку «фрапена» и хрустальный бокал.
— Господи, если бы я знал о существовании ребенка, я был бы более настойчив, попытался бы выяснить, где он, с кем, но…
— Я понимаю. Только теперь у меня нет ничего, вообще ничего, чтобы начать поиск. Мое дитя. И мне не понятно, почему она вообще скрыла от меня правду, у меня нет объяснения, почему она столько лет хранила тайну. К чему эта ложь, тайны, мистификации? Вся жизнь моей матери состояла из подобных маневров и интриг, в стремлении достичь невозможного. Они были сутью ее существования, полковник.
Не без основания причисляя себя к результатам подобных манипуляций, полковник улыбнулся и спросил:
— А что за ожерелье она упоминала? «Я оставила кулон, ожерелье Анжелики». Это может быть зацепкой?
— Я думала об этом и полагаю, что она, должно быть, подразумевала кулон, который подарила мне на тринадцатый день рождения. Очень старая работа, которая принадлежала ее прабабушке и передавалась от матери к дочери. Кулон, должно быть, в какой-то момент был изъят, потому что я помню, что обнаружила пропажу и искала его. Я боялась спрашивать, потому что не хотела, чтобы она знала о пропаже. Она его очень любила. У матери были великолепные драгоценности, полковник, хотя я сомневаюсь, что она их вам демонстрировала во время вашей «дружбы» с ней. Но она так любила тот небольшой аметист, вырезанный в форме флакона с сиреневой жемчужиной вместо пробки. То, что она передала его с ребенком, говорит мне об очень многом…
— Она признала ее своей внучкой. Вы это подразумеваете?
Анжелика кивнула.
— Однако это обстоятельство не дает нам шанса узнать, где она оставила ее и как я могу ее найти.
— Кто был отцом ребенка?
— Мальчик, однокашник моего кузена. Школа-интернат в Варшаве. Я думаю, что он был годом старше, чем я. Приблизительно на год. Он не любил меня.
— Вы говорили ему о ребенке?
— Нет. Я никогда не видела его после. Мать все взяла в свои руки. Она очень хорошо умела это делать, полковник. Казалось, она видела любую ситуацию насквозь. Я даже не отдавала себе отчет, насколько она была проницательна. Она, должно быть, проследила, чтобы мальчик никогда не смог связаться со мной, не думаю, что это вызвало у нее затруднения — она ликвидировала…
— «Ликвидация» — это не то слово, Анжелика. У нее явно были свои причины.
— Ребенок родился «больным», с сердечной недостаточностью и слабым шансом на выживание. Это — то, что она сказала мне. И затем она сказала, что везет его в швейцарскую клинику. На операцию. Но когда она возвратилась, она сообщила, что ребенок умер. Конечно, я верила ей. У меня не было никаких причин для недоверия. Вот и все, что я знаю, полковник.
— Следы должны были остаться. Вы можете начать с больницы, где ребенок… Я, простите, я не знаю имени…
— Я тоже.
— В больнице, где вы рожали, должны быть документы… И затем есть швейцарская клиника…