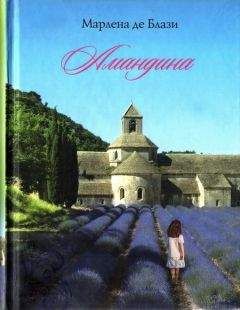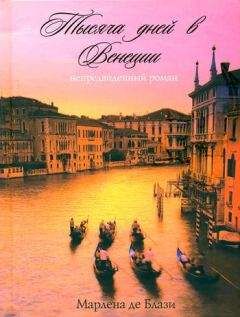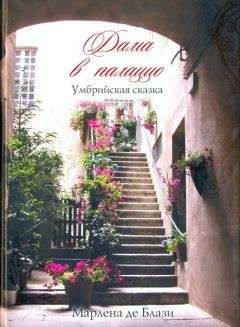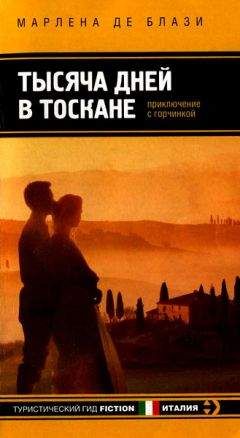— «Ликвидация» — это не то слово, Анжелика. У нее явно были свои причины.
— Ребенок родился «больным», с сердечной недостаточностью и слабым шансом на выживание. Это — то, что она сказала мне. И затем она сказала, что везет его в швейцарскую клинику. На операцию. Но когда она возвратилась, она сообщила, что ребенок умер. Конечно, я верила ей. У меня не было никаких причин для недоверия. Вот и все, что я знаю, полковник.
— Следы должны были остаться. Вы можете начать с больницы, где ребенок… Я, простите, я не знаю имени…
— Я тоже.
— В больнице, где вы рожали, должны быть документы… И затем есть швейцарская клиника…
— Если моя мать сказала мне правду об этой швейцарской клинике, вообще сказала хоть слово правды. У меня даже нет свидетельства о рождении. У меня ничего нет.
— Наверняка что-нибудь найдется среди бумаг вашей матери, надеюсь, вы найдете… Проблема только в том, что все смешалось из-за этой войны, тысячи и тысячи людей ищут друг друга, беженцы, потеря архивов, разрушенные коммуникации, неведомые пути…
— Конечно. Я понимаю. Но у меня впереди еще один неприятный разговор, полковник. Мой муж ничего не знает о ребенке. Ничего об этой истории.
— Она позаботилась и об этом, не так ли?
Анжелика улыбнулась и прошептала:
— Да.
Они сидели в маленькой гостиной друг напротив друга. Казалось бы, все уже сказано, но что-то мешало расстаться. Вмешалась Баська, настаивая, что Анжелике давно пора отдыхать.
Полковник обещал писать, дал номера, по которым его можно найти. Поклонился, поцеловал руку и пошел к выходу. Баська прошла вперед, чтобы открыть ему дверь, на пороге он обернулся:
— Я любил ее. Я все еще люблю ее.
~~~
Вечером следующего дня Анжелика встречала мужа. Она никогда не видела Януша в великопольской форме, его вид ошеломил ее. Красивый блондин в высоких блестящих черных сапогах, темно-красном мундире и белых бриджах, тугих, как кожа, Януш — встревоженный, бледный — стоял перед нею.
Ей неловко в его объятиях, расслабиться мешало внутреннее смятение, упадок духа, бремя скорби. А больше всего необходимость рассказать, признаться. Януш баюкал ее, ласкал, шептал слова утешения, и она не могла выдержать его нежности. Попросив его сесть подальше и внимательно ее выслушать, она начала:
— Когда мать умирала, она попросила полковника фон Караяна рассказать мне… Она просила его передать…
Анжелика замолчала, спрятала лицо в ладонях, потом взглянула на Януша и начала снова:
— Она просила передать мне, что мой ребенок не умер.
— Что?
— Никаких вопросов, Януш, или я никогда не смогу сделать это. Пожалуйста. Только слушай. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, у меня был короткий, очень краткий роман с мальчиком. Другом моего кузена. Они приехали в Краков на каникулы. У меня никогда не было поклонника. В свои шестнадцать я была еще совсем ребенком, робким и неприспособленным. Ходила в белых носочках и туфельках на низком каблуке. Я воспитывалась в монастырской школе и сгорала от смущения всякий раз, когда говорила с молодым человеком. Я была маленькой любимой девочкой Матки. И то, что этот мальчик стал искать моего внимания, открыло мне, что я красива. Я…
— Нет необходимости, Анжелика, объяснять мне приемы соблазнения, распространенные среди молодых людей.
— Ты прав. После того как он уехал из нашего дома, я не получила от него ни слова. Было горько и стыдно. Я гневалась на судьбу, а когда поняла, когда наконец осознала, что со мной произошло — я оказалась беременной, — я бросилась к матери, как и всегда. То, что произошло потом и происходило в течение долгого времени, мне непонятно, Януш.
— Непонятно?
В процессе рассказа князь вскочил и теперь мерил комнату шагами, оборачиваясь время от времени, чтобы взглянуть на жену, как будто с целью убедиться, что именно она сидит напротив и это ее рассказ.
— Да, непонятно. Действительно непонятно, потому что с того момента моя мать все взяла в свои руки, все решения принимала сама. Но позволь мне вернуться немного назад. Видишь ли, мальчик, моя любовь, ну, в общем, ни мать, ни я, ни, я думаю, мой кузен, не знали, кто он. Дело в его семье. Ни один из нас не знал, что он младший брат любовницы моего отца. Баронессы. У них были разные фамилии. Возможно, они родились от разных отцов, я не знаю. Петр Друцкой, так его звали. Я не думаю, что он хотел что-то скрыть от нас; фактически, я думаю, что он, возможно, даже не знал, кто мы по отношению к его семье. Или, в любом случае, я думаю, что он не знал связи между нами и сестрой. Ему исполнилось года три или четыре, когда его сестра умерла. Когда все случилось. Мне тогда было два года, да, он лишь немного старше. Но мать узнала, кто у нас гостил приблизительно в то же самое время, когда я призналась ей, что мы были любовниками. И что у меня будет ребенок. Во дворец приехал доктор, обследовал меня. В то время как я одевалась, в мою комнату вошла мать, обняла меня, крепко прижала к себе и так стояла, покачиваясь и периодически повторяя: «Антоний, Антоний». Она произносила и произносила имя моего отца. Как хорал, как молитву. Конечно, я знала историю отца и баронессы. Адаптированную версию событий, по моему разумению. Но мы почти никогда не говорили о нем, таким образом я никак не ожидала, что плакать и молиться она будет, обращаясь к нему.
Мать постаралась осторожно выяснить мое отношение к некоторой «процедуре». Так она выразилась. Процедура, которая «избавила бы меня от ребенка». Думая только о моем возлюбленном и о том, что он оставил во мне, я отказалась «избавляться». Насколько помню — в резкой форме. Я сопротивлялась не потому, что так уж хотела ребенка, но потому, что это существо было частью моего возлюбленного. Мать оказалась достаточно мудра, чтобы понять. Она никогда снова не упоминала процедуру. Она сообщила мне, что мы уезжаем на каникулы на курорт и я не должна ни о чем волноваться. Вообще ни о чем.
Несколько дней спустя мать объявила о нашем отъезде на длинные каникулы. Пока упаковывали наши вещи, она рассказывала семье и друзьям о том, как много я училась и что пора показать мне мир, и мы заказали большой тур. Рим, Венеция, Париж, Вена — ворковала она, хотя в действительности мы направлялись в Шварцвальд, на виллу в районе Фридрихсбада. Там мы и оставались в течение семи месяцев. Немногим больше. Пока ребенок не родился. В частной больнице поблизости. Тоже вилла. Очень шикарно и очень тихо. Меня большую часть времени держали на лекарствах, и все, что я помню, — длинные сны, отдаленные голоса, постоянная игла в руке. Я не знаю, сколько прошло времени, я потеряла счет дням. Смутно помню медсестер и докторов, окруживших меня, их мрачные лица, и еще там постоянно была мать, заботливая, но расстроенная. Многого я не могу вспомнить.
— Чего ты не можешь вспомнить? Ребенка? Как держала его на руках?
— Я никогда не держала на руках своего ребенка.
— Почему?
— Януш, пожалуйста. В течение тех первых дней и ночей если я и думала о ребенке, то мне представлялось, что он родился мертвым и что окружающие ходят вокруг меня на цыпочках в попытке скрыть правду. Так я думала. И таким образом облегчила им задачу. Я ни о чем не спрашивала, приветствуя инъекцию за инъекцией, предоставив моей матери самой обо всем позаботиться, как впрочем и всегда. Наконец однажды утром мать, сидя у моей кровати, рассказала мне, что ребенок родился с серьезным сердечным дефектом, девочка слишком слаба, и что вероятней всего не переживет следующие несколько дней. Я приняла новости и практически обрадовалась им, ведь перед этим я думала, что она умерла. Нет, обрадовалась — неправильное слово. Правда — то, что я ничего не чувствовала. Во мне не было никакого материнского чувства. Моя мать обладала им в полной мере, я не выдерживала никакого сравнения с ней, и не пыталась. Она была всем матерям матерью. Ребенок не стал для меня реальностью. Реален был мой позор. Мой позор и моя надежда, моя вера в то, что любимый возвратится ко мне. Я не думаю, что тебе это о многом говорит, но это все, что я чувствовала тогда. И что не забыла.
Через несколько дней мы возвратились на виллу. Мать сказала мне, что ребенок должен будет остаться в больнице для дальнейшего ухода. Я не возражала, пытаясь прийти в себя. Прошел месяц, был конец мая, если я правильно помню, когда мать сообщила, что пора возвращаться в Краков. Без ребенка. Тут я опять уверилась, что ребенок умер, иначе как бы мы его оставили? Я знала, что в течение всего месяца мать неоднократно посещала больницу, где, возможно, оставался ребенок, но она никогда не звала меня с собой. Я была инертна, покорна, и мы возвратились в Краков.
В сентябре мать объявила, что она возвращается, чтобы забрать ребенка и перевезти его в Швейцарию, где есть возможность сделать операцию. Она объяснила, что появилась надежда на выживание ребенка. Сегодня, когда я знаю, что она потом сделала, я думаю, что она испытывала меня в тот день, пытаясь понять мои чувства к ребенку. Я думаю, она пыталась решить. Должна ли она отдать девочку или нет? Да, она явно колебалась, потому что я никогда прежде не видела свою мать со взглядом одновременно напуганным и угрожающим. Но, конечно же, я не знала, что она задумала, иначе попыталась бы удержать ее. Но я ничего не знала.