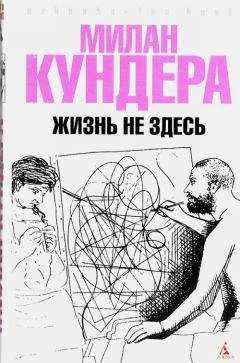4
Но экзамены сдавал и Яромил, когда отчитывался перед комитетом. Он должен был отвечать строгим молодым людям, причем стремился отвечать так, чтобы понравиться им: там, где речь идет о воспитании молодежи, компромисс — преступление. Недопустимо оставлять в вузе учителей старых убеждений: либо грядущее будет новым, либо его вообще не будет. И нельзя доверять тем учителям, что в одну ночь меняют свои убеждения: либо грядущее будет чистым, либо оно будет позорным.
Но ежели Яромил заделался таким бескомпромиссным деятелем, своими отчетами влиявшим на судьбы взрослых, смеем ли мы утверждать, что он был в бегах? Не кажется ли нам, что он уже достиг цели?
Ничуть не бывало.
Когда в шестилетнем возрасте мамочка определила его в школу, он оказался на год моложе своих одноклассников; и так всегда и везде: он на год моложе других. Докладывая о профессоре, у которого буржуазные взгляды, он при этом не думает о нем, а лишь со страхом заглядывает в глаза молодых людей, отыскивая свой образ; равно как дома он изучает перед зеркалом свою прическу и улыбку, так и в их глазах он изучает непоколебимость, мужественность и твердость своих слов.
Он постоянно окружен стеной зеркал и за ней уже не видит ничего.
Ибо зрелость нельзя разделить пополам; зрелость либо полная, либо ее нет вовсе. До тех пор пока он в чем-то будет оставаться ребенком, его присутствие на экзаменах и отчеты о профессуре будут лишь способом его бегства.
Ибо он все время от нее убегает и никак не может убежать; он завтракает с ней и ужинает, желает ей доброй ночи и доброго утра. Поутру он получает от нее хозяйственную сумку; мамочка не считает, что этот кухонный символ может казаться зазорным для идеологического стража профессуры, и посылает его за покупками.
Вот смотрите: он идет по той же улице, на какой мы видели его в начале предыдущей части, когда он покрылся краской перед идущей навстречу ему незнакомкой. С тех пор утекло несколько лет, но он все так же краснеет и в магазине, куда мамочка посылает его за покупками, боится взглянуть в глаза девушке в белом халате.
А девушка эта, посаженная на восемь часов в тесную клетку кассы, поистине очаровала его. Мягкость силуэта, неспешность жестов, да и само заточение — все это кажется ему таинственно близким и предначертанным. Впрочем, он знает почему: эта девушка походит на служанку, у которой убили возлюбленного: прекрасная ликом печаль. И клетка кассы, где сидит девушка, похожа на ванну, в которой он видел купающуюся служанку.
Он сидит, склонившись над письменным столом, и боится выпускных экзаменов; он боится их на факультете так же, как боялся их в гимназии, поскольку привык показывать матушке аттестат с одними отличными отметками и не хочет ее огорчать.
Но до чего невыносимо душно в этой маленькой пражской комнатушке, когда в воздухе носятся отзвуки революционных песен и призраки могучих парней с молотами в руках рвутся в окна!
На дворе 1922 год, пять лет после великой революции в России, а он должен корпеть над учебниками и трястись перед экзаменом! Что за наказание!
В конце концов он отодвигает учебники в сторону (сейчас поздняя ночь) и задумывается над начатым стихотворением; он пишет о рабочем Яне, который хочет убить сон о прекрасной жизни тем, что осуществляет его; в одной руке он держит молот, другой — подхватывает свою возлюбленную и вместе с толпой товарищей идет делать революцию.
И студент юридического факультета (о да, это, конечно, Иржи Волькер) видит на столе кровь, потоки крови, ибо
когда убивают великие сны
кровь рекою течет
но крови он не боится, потому что знает: быть мужчиной, значит не бояться крови.
Магазин закрывается в шесть вечера, и к этому времени он занимает свой пост на противоположном углу. Он знает, что вскоре после шести оттуда всегда выходит кассирша, но знает и то, что всякий раз ее провожает молодая продавщица из того же магазина.
Ее подруга куда менее красива, она кажется ему чуть ли не уродливой; собственно, она полная противоположность кассирши: та брюнетка, эта рыжая; кассирша пухленькая, эта худая; кассирша тихая, эта шумливая; кассирша таинственно близкая, эта отталкивающая.
Он занимал свой наблюдательный пост чаще всего с надеждой, что когда-нибудь, кто знает, девушки покинут магазин порознь и ему удастся заговорить с брюнеткой. Но этого не случилось. Однажды он пошел следом за ними; они миновали несколько улиц, потом вошли в многоэтажку; он почти час прохаживался мимо дома, но ни одна ни другая не появилась.
Она приехала к нему в Прагу из провинциального городка и слушает стихи, которые он читает ей. Она спокойна, она знает, что сын по-прежнему принадлежит ей; его не отняли у нее ни женщины, ни мир; напротив, женщины и мир вошли в магический круг поэзии, и это круг, которым она сама очертила сына, это круг, в котором тайно властвует она.
Вот он читает ей стихотворение, которое написал в память ее матери, своей бабушки:
ибо на битву иду я
бабушка моя
за красоту этого мира
Пани Волькерова спокойна. Пусть ее сын идет на битву лишь в своих стихах, пусть в них он держит молот и подхватывает под руку свою возлюбленную; это не тревожит ее; ведь в стихах он сохранил и ее, и бабушку, и фамильный буфет, и все добродетели, к которым она приобщала его. Пусть мир видит ее сына с молотом в руке. Она прекрасно знает, что выставлять себя напоказ миру — это нечто совсем другое, чем уйти от нее в мир.
Но поэт тоже знает об этой разнице. И только он знает, как тоскливо в доме поэзии!
Только настоящий поэт знает, как безмерно желание не быть поэтом, как велико желание покинуть этот зеркальный дом, в котором царит оглушительная тишина.
Гонимый из края видений
приюта в толпе я ищу
и звуки моих песнопений
скорее я в брань обращу
Но когда Франтишек Галас[4] писал эти строки, он не был в толпе на площади; комната, где он склонялся над столом, была тиха.
И вовсе неправда, что он был гоним из края видений. Краем его видений были именно толпы, о которых он писал.
И ему никак не удавалось обращать свои песнопения в брань, скорее наоборот, его брань постоянно обращалась в песнопения.
Но я
себя
смирял
становясь
на горло
собственной песне,
написал Владимир Маяковский, и Яромил его понимает. Рифмованный язык кажется ему кружевом, чье место в мамочкином комоде. Он уже несколько месяцев не пишет стихов и не хочет писать их. Он в бегах. Хотя он и ходит для мамочки за покупками, но ящики своего письменного стола от нее запирает. Со стены снял все репродукции модернистских картин.
Что же повесил он вместо них? Уж не портрет ли Карла Маркса?
Ничуть не бывало. На пустую стену он повесил портрет папочки. Это была фотография 1938 года, года печальной мобилизации, и отец был на ней в офицерской форме.
Яромил любил эту фотографию; с нее смотрел на него человек, столь мало знакомый ему и уже исчезнувший из памяти. Тем больше тосковал он по тому мужчине, который был футболистом, солдатом и заключенным. Ему так недоставало его.
Актовый зал философского факультета был переполнен, и на сцене сидело несколько поэтов. Молодой человек в голубой рубашке (такие тогда носили члены Союза молодежи) и с огромной шевелюрой пышных волос стоял перед сценой и говорил:
Поэзия никогда не играет такой роли, как в революционную эпоху; поэзия отдала революции свой голос, и революция вознаградила ее тем, что избавила от одиночества; поэт теперь знает, что люди слышат его и главным образом слышит его молодежь, ибо: «Молодежь, поэзия и революция — одно целое!»
Затем встал первый поэт и прочел стихотворение о девушке, которая порывает со своим любимым, поскольку он, работающий за соседним станком, лентяй и не выполняет плана; но любимый, не желая терять возлюбленную, начинает так рьяно работать, что на его станке в конечном счете появляется красный флажок ударника. Вслед за этим поэтом вставали его коллеги и читали стихи о мире, о Ленине, о Сталине, о замученных борцах-антифашистах и о рабочих, перевыполняющих нормы.
Молодость даже не предполагает, какая огромная власть быть молодым. Но поэт (ему лет шестьдесят), который вознамерился прочесть свое стихотворение, это знает.
Молод лишь тот, декламировал он певучим голосом, кто шагает в ногу с молодостью мира, а молодость мира — это социализм. Молод лишь тот, кто погружен в будущее и не оглядывается назад.