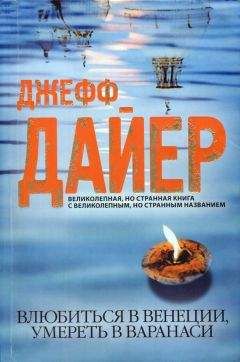Может быть, как раз поэтому по дороге на вечеринку (Джефф не знал, куда они идут, и просто брел за Лорой, как щенок) он все больше убеждался в том, что идти туда ему не слишком хочется. К тому времени, как они прибыли на место, отстояли очередь и проникли внутрь, это состояние сгустилось до степени «совсем не хочется». Ему хотелось спросить Лору о том, что их ждет, когда и где они снова встретятся, но, сделав это, он нарушил бы то совершенное настоящее, во власти которого они все еще пребывали. Впрочем, долго это продолжаться не могло. Времени оставалось все меньше, а на задворках сознания постоянно маячила мысль о проблемах, с которыми ему неизбежно придется столкнуться, когда их время окончательно истечет, когда он снова окажется в Лондоне без рисунка и без фото, не готовый сказать ничего вразумительного об искусстве, про которое ему тут полагалось писать. Хотя все это его в данный момент не так уж волновало. По большому счету биеннале — это всегда куда больше вечеринки, чем искусство. Только вот сейчас вместо того, чтобы околачиваться по вечеринкам, он бы предпочел отправиться домой (то есть в отель) с Лорой и лежать на кровати, пока она будет скользить вагиной ему по лицу. Но сколь бы увлекательной ни выглядела эта идея, сейчас это было совершенно невозможно. В Венеции надо развлекаться, ходить на вечеринки вроде этой, откуда, если все будет хорошо, можно будет уйти домой не в одиночестве… Мысли упорно лезли в голову, как бывает, когда ты сильно устал. Почему же, когда все так отлично складывается, куда лучше, чем даже в самых смелых мечтах, он так себя накручивает? А просто потому, что остатки кокаинового драйва, наложившегося на глубоко запрятанную в подсознании усталость, мутировали во всепоглощающую, беспредметную тревогу. Словно бы у него вдруг стали быстро отрастать седые корни. И как же с этим справиться? Просто выпить еще беллини, чтобы успокоиться, и нюхнуть еще кокса, чтобы взбодриться.
И это в общем помогло, ну, хоть как-то. Они с Лорой употребили по дорожке в туалете и вышли оттуда рука об руку, шмыгая носом и сияя от счастья. Тревога мгновенно обратилась в возбуждение, хотя и с некоторым оттенком тревоги. В колонках громыхала какая-то танцевальная музыка.
— Звучит знакомо. Не узнаешь, что это?
— Это ремикс Пола Оукенфолда[113] на «Времена года» в исполнении Найджела Кеннеди[114], — ответила Лора.
Было непонятно, шутит она или нет, но звучало вполне правдоподобно.
К ним подошла Моника, чтобы поведать, что она так и не сказала Жан-Полю, как сильно его ненавидит, так как поняла, что на самом деле он ей очень даже нравится. Джефф заявил, что это демонстрирует слабость воли и что если бы он, Джефф, увидел Жан-Поля, то непременно сказал бы ему, что ненавидит его, невзирая на свое личное к нему отношение. Он познакомил Монику с Лорой, которая тут же познакомила его с кем-то еще, чье имя он не уловил, так как именно в этот момент к ним присоединился Фил Спендер. Джефф поспешил извиниться перед Филом за то, что так и не попал на его вечеринку, на которую ему так хотелось пойти, но про которую он совершенно забыл и вспомнил всего пару секунд назад. И тайный концерт «Крафтверк» он тоже, увы, пропустил. Фил в свою очередь хотел знать правду о Джеффовой голове: он что, действительно покрасил волосы? Джефф признался, что да.
— Добро пожаловать в наш клуб! — подмигнул ему Фил.
Ха! Так тут все это делают? Они шутливо понаскакивали друг на друга, следя за тем, чтобы ничего случайно не пролить на все еще безупречно свежий кремовый костюм Фила — просто удивительно, как ему удалось сохранить свою девственность. Слева от Фила он углядел Джейн, а чуть поодаль Джессику и Кайзера. Он был знаком тут с кучей народа и еще большую кучу знал в лицо — не то по предыдущим вечеринкам, не то уже по этой. А ведь были и такие, кого он знал, но попросту не узнавал… Короче, тут были все, включая тех, с кем он все еще продолжал знакомиться; он им что-то вещал, они что-то вещали ему, говоря то, что они уже говорили кому-то другому. И Джефф тоже все глубже увязал в повторах, все туже затягивая петли бессмыслицы. Кем бы они ни были, это была их последняя ночь в Венеции, когда они были тут все вместе, попивая беллини, несмотря на то что кое-кто уехал еще днем. Биеннале — по крайней мере эта его часть, сам вернисаж, — была невероятно короткой. Пока ты там, внутри, все крутится с такой бешеной скоростью, как будто будет длиться вечно. Ты мечтаешь пропустить хоть один вечер, чтобы отдохнуть, расслабиться, но не можешь себе это позволить, так как биеннале идет вроде бы долго, но в то же время проносится поразительно быстро. Не успело все начаться, как тут же и закончилось. Вроде она только что открылась, а через пару мгновений глядишь — уже всё. Ну вот, опять он что-то бормочет сам с собой. Это все алкоголь и наркотики. И то, и другое словно пронзает мозг ультрафиолетовым лучом, расцвечивая его унылую, выгоревшую зацикленность. Годами жизнь подтачивала и истощала его когнитивные способности, однако в обычных условиях масштабы катастрофы были скрыты от восприятия. Но стоило ему употребить волшебное вещество, как внутренний распад мгновенно обнажился. Еще пара лет, и его мозг будет как изъеденный морем коралл под названием мозговик, хотя нет, скорее коралл-безмозговик, безжизненный, бесцветный, мертвый. Волосы еще можно восстановить и покрасить, а вот мозг… Можно, конечно, начать принимать всякие пищевые добавки — стимуляторы памяти, средства, усиливающие выработку серотонина, нейростероиды. Но пока — завидев приближающегося официанта, Джефф протянул ему пустой бокал, свою чашу для подаяния. Само это действие помогло ему взглянуть на свои мозговые проблемы в менее проблематичном и более оптимистичном ключе. В молодости он гордился своим умом. Идя по улице, и даже ни о чем таком не думая — просто следуя куда-то по своим делам как любой другой обормот, он постоянно наслаждался ощущением своей умности. Он никогда ничего с ней не делал, никак ее не использовал, только писал всякие глупые статьи и время от времени вставлял в разговор умные замечания, большинство из которых даже не были особо умными. Он просто чувствовал себя умным, и это было чертовски приятное чувство. А сейчас он с той же убежденностью (и куда большей обоснованностью) чувствовал, что вступает в свои глупые годы. Глупые годы дополняли смутные. На самом деле одно прилагалось к другому. Смутные годы и глупые годы были одними и теми же годами, и более того — они уже начались. Что ж, поприветствуем их. Когда начинаешь забывать имена, как не устают напоминать рекламные объявления в газетах, это, конечно, крайне неловко, но, помимо этого, быть глупым прекрасно. Это первый знак просветления.
У него в кармане лежал маленький цифровик. Джефф извлек его, собираясь сделать один из тех бесполезных и бездарных во всех отношениях снимков из серии «вечеринка в самом разгаре», где у всех обычно красные зрачки. Он включил ее, и она почему-то заработала в режиме воспроизведения, так что на экране возникла не мельтешащая вокруг толпа, а сделанная днем фотография — они с Лорой на Джудекке. Он наехал на нее зумом, убирая себя из кадра и приближая ее лицо, а потом только глаза — все ближе и ближе, пока они не перестали быть глазами, превратившись в галактику пикселей в момент Большого взрыва.
Рейс Лоры был в два часа пополудни. Сейчас же было одиннадцать утра. Он лежал на ее постели с больной головой, прижимая к носу бумажный платок, и смотрел, как она пакует вещи. Белое платье, а сверху красно-золотое, купленное ею в Лаосе (в месте, где он в жизни не был, но теперь хотя бы знал, как оно произносится), и, наконец, синее — все было аккуратно сложено в чемодан. Это походило на какой-то извращенный стриптиз наоборот и даже хуже — словно она собирала вещи в загробный мир, в жизнь-после-Венеции, в жизнь-после-него, оставляя его, как если бы он уже умер. На ее месте он попытался бы поменять рейс или, на худой конец, просто плюнул бы на пропавший билет и купил новый, на более позднюю дату. Но он был на своем месте. А она улетала. И уже почти все собрала.
Они обменялись электронными адресами и номерами телефонов, но так и не условились о новой встрече. Обычно получается, что это мужчины приходят и уходят, а женщины плачут им вслед, но тут почему-то бросали его, и если он хоть на минуту потеряет контроль, то вполне может расплакаться. Мысль об этом немедленно вызвала к жизни другую картинку: его крашеные волосы текут, как девичья тушь, пятная лоб и щеки черными разводами. Вчера он чувствовал себя римским императором, способным на все; сегодня из носа у него текла кровь, во рту была кислая сушь, голова горела и раскалывалась, и ему хотелось не то горько рыдать, не то выть. В семнадцать лет он прочел «Женщину французского лейтенанта» и был крайне впечатлен озвученным Фаулзом различием между викторианским восприятием мира: я не могу обладать этим вечно, и потому мне грустно — и современным экзистенциальным подходом: у меня это пока что есть, и потому я счастлив. Почему-то оно ему запомнилось, однако претендовать сейчас на экзистенциальное удовлетворение было бы абсурдом. В 2003 году, на пятом десятке, ему суждено было познакомиться со своим внутренним викторианцем. Здесь, в Венеции, он обнаружил, что, похоже, был последним здравствующим жителем той эпохи.