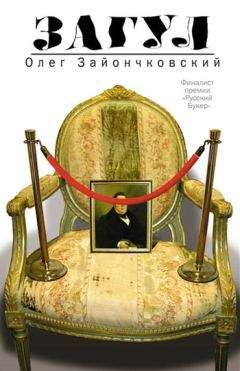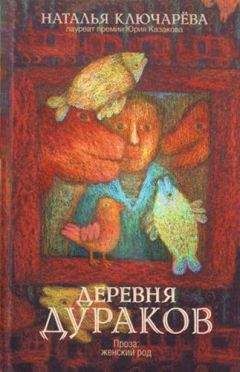Сергеев вздрогнул:
— Что за бред?
— Ну... — Тома замялась, — вас давно вместе не видели.
— Просто я стал из дома редко выходить.
— Сиднем стал? — Бок нахмурился. — Смотри, весь век просидишь... Зачахнешь, как этот вот, — он кивнул на Кольку.
— Ничего я не зачах! — огрызнулся Безукладов. '
— Нет, уж ты мне поверь, — внушительно возразил Генка. — Снесут скоро твою мастерскую, и тебя вместе с ней.
— Такие, как ты, снесут — людоеды!
— А потому что нельзя думать только о бабах.
Они заспорили, а Сергеев задумался о своём. Странный вопрос задала ему Томка. «Зря я все-таки с женой сегодня не поехал», — пожалел он.
Пора, однако, было переходить к делу.
— Генрих!.. Ген, извини, что прерываю... Помнишь, ты в молодости дисками фарцевал? Ну, пластинками...
— Пластинками? — Генка насторожился. - ну И ЧТО?
Попросить тебя хотел... Если у тебя что-нибудь осталось и если не жалко, конечно, отдай мне.
Бок удивился:
— Кому они сейчас нужны — теперь у всех «си-ди».
— Вот, как видишь — мне понадобились.
— Понятно... — пробормотал Генка, но в глазах его читалось недоумение. — Ты знаешь, старик, я вообще-то хлама в доме не держу.
— Понятно, — сказал уж? Сергеев.
Теперь можно было вежливо отваливать,
тем более что Безукладов заскучал от Генкиной правды-матки. Они было начали собираться, но Тома, порозовевшая от вина, стала упрашивать:
— Останьтесь, ребята, ведь в кои веки...
Они вопросительно взглянули на Бока.
Генка развел руками:
— Хозяйка просит...
Сам он тоже подозрительно зарумянился — ему, очевидно, хотелось «продолжения банкета». «С чего бы?» — вскользь подумалось Сергееву.
В итоге они «зависли» у Боков — без пользы для предприятия, но, кажется, с пользой для души. Приходили Генкины рабочие и были отправлены восвояси. Безукладов бегал за водкой и вместо одной, естественно, принес две бутылки. Сервировка стола становилась все более свободной; все больше кусков летело в розовую Карлову пропасть.
Наконец круглые Томины щеки улеглись на подставленные ладони.
— Ребята, может, хватит нам трепаться. Сто лет Гена не пел... я уж и забыла, что выходила за музыканта.
Бок смущенно отнекивался, но потом все-таки принес гитару.
— Ну вот, а сказал — хлама не держишь, — съехидничал Безукладов.
— Еще подколешь — и петь не буду, — предупредил Генка.
В юности, получив музыкальное образование прямо во дворе и усвоив необходимые аккорды, деятельный Бок организовал в нашем городке вокально-инструментальный ансамбль. С тех пор он без ложного стыда носил у ровесников титул музыканта. Впрочем, как убедились Колька с Сергеевым, щипать гитару он еще не разучился — пел и играл вполне душевно, а компания, как могла, подтягивала. Сам расчувствовавшись, Генка внезапно прихлопнул ладонью струны и выпил не в очередь. Потом посмотрел на приятелей с пьяным вызовом:
— Вы, небось, думаете, что Бок зажлобился — мол, у него одни бабки на уме?
— А то нет! — усмехнулся Колька.
— А вот и нет! Для кого я стараюсь, о ком думаю? О детях да вот о ней! — он кивнул на Тому.
Сергеев поднял голову:
— Правда, Том, это он о тебе печется?
Тома засмеялась:
— А как же — печется! У него даже в записной книжке написано: «Не забыть приласкать Тому».
Генка обиделся:
— И ты с ними заодно! Все, не буду вам больше петь.
— Ну спой!
Пели еще.
Расходились поздно. Генриха развезло; он порывался провожать, а Тома, смеясь, его удерживала: s - .
— Куда ты пойдешь, такой пьянющий!
«Чему она радуется? — подумал Сергеев. — Генке нельзя столько пить».
С Безукладовым они расставались на перекрестке.
— Ты давай... осторожно, — напутствовал Кольку Сергеев.
— И ты... смотри под ноги.
Мерзлая дорога била в пятки; сугробы перегораживали путь. Однако Сергеев счастливо избежал их предательских объятий и вскоре достиг своего дома. Поперек подъезда стояла чья-то большая иномарка, но, обойдя и это препятствие, он поднялся на третий этаж, разобрался с замком и оказался наконец в собственном жилище. В квартире горел свет; посреди передней красовались чужие мужские ботинки. Заглянув в комнату, Сергеев увидел сидящего на диване лощеного господина, в котором не сразу признал бывшего жениного одноклассника Гарика Моргулиса.
— Приве-эт, — удивленно протянул Сергеев. — Так это твоя лайба там... пройти не дает?
— Привет. — Моргулис привстал и протянул руку. — Ты не волнуйся, мы сейчас уезжаем.
Сергеев нахмурился:
— Кто это «мы» и куда это вы уезжаете?
Из спальни показалась жена — в макияже и одетая «на выход»:
— Привет!
Но улыбка ее быстро погасла.
— Ф-ф-у-у... Значит, пьянствовал? Вот, смотри, Гарик, стоило мне за порог, как он уже...
Гарик ухмыльнулся и покачал ногой.
— Куда это вы уезжаете? — повторил Сергеев почти грозно.
— В Москву, куда же. У тети Маши удар, сидеть с ней некому. Я только за вещами: придется пожить у нее несколько дней.
— Так, — сказал он мрачно-недоверчиво. — А этот здесь при чем? — он кивнул на Моргулиса.
— А вот скажи ему спасибо. Хорошо — мир тесен — случайно встретились, а то кто бы меня свозил туда-обратно, да еще среди ночи.
— Случайно, стало быть... Ну, спасибо, Гарик-друг.
— Нот эт олл, — отозвался Моргулис и опять противно ухмыльнулся.
Сборы продолжились. Мужчины сидели некоторое время в молчании; Гарик оглядывал со снисходительным видом убранство сергеевского жилья.
Сергеев поерзал:
— Гарик, ты что,-в зоопарке — что ты все рассматриваешь?
— Ремонт тебе надо делать...
— Будут деньги — сделаю. Ты-то, я смотрю, процветаешь?
— Ай эм файн, — ответил Моргулис небрежно и, будто невзначай, посмотрел на свои швейцарские часы.
Гарик работал в Москве то ли риэлтором, то ли криэйтором и в городок наведывался нечасто — навестить родителей и порисоваться перед старыми знакомыми. С детства он был пронырой, однако не все его предприятия оканчивались успешно: например, попытки ухаживать за девочкой Наташей, ставшей потом сергеевской женой. Лично Сергеев не раз украшал большими «бланшами» физиономию будущего риэлтора. Дело, конечно, прошлое, но, как видно, старая любовь не ржавеет — иначе с чего бы этот пижон стал катать ее среди ночи в такую даль...
Между тем жена, наконец, собралась. Она дала ему необходимые хозяйственные инструкции, вручила Гарику самую тяжелую сумку и была такова. Даже не стала целовать Сергеева на прощанье.
— От тебя дурно пахнет, — сказала она. — Смотри, поменьше тут пьянствуй без меня.
И Сергеев остался один. Хмель не давал как следует осмыслить произошедшее, но это было и хорошо. Он лег спать и накрылся хмелем, как одеялом; «Потом, потом...» — пробормотал он, засыпая, хотя смутно осознавал, что это гадкое «потом» уже здесь и будет с терпением сиделки дожидаться его пробуждения.
Так оно и случилось: наутро Сергеев сообразил, что у тети Маши нет телефона, а он не знает ее адреса. Получалось, что жена покинула совершенно всякие пределы досягаемости. Это открытие сделало его похмелье еще более тягостным. Он пытался себя успокаивать, мол, ничего страшного не происходит, сидит она с теткой и скучает по нему; поживет там — вернется, и все будет по-старому. Но успокоиться не давала мысль о Моргулисе, память о его подлой ухмылке. Что-то здесь было не так, и фантазия подсказывала ему — что. «Да, — говорила фантазия, ты обманут; сидит она там не с тетей Машей, а с Гариком в ресторане, а он, гад, гладит ее по руке...» Почему-то других сцен фантазия ему не рисовала — видимо, щадила и без того несчастного Сергеева.
Прошло два дня, а от жены не было ни слуху ни духу. Сергеев приходил с работы, готовил себе ужин, ей его без аппетита, мыл посуду. Потом он доставал из шкафа портвейн и садился слушать (вот когда они понадобились!) свои виниловые пластинки. Поздно вечером он переваливался в кровать и спал — не спал, ворочался до утра — в эти две ночи он говорил с женой больше, чем во весь последний год.
Наконец, эта «ломка» в одиночестве стала ему невыносима. На Третий вечер он, неожиданно для самого себя, оделся и подался из дому так решительно, словно по обдуманному важному делу. В действительности дела у него никакого не было, а был порыв, определенный, впрочем, в смысле направления. Сама страдающая душа повлекла Сергеева к товарищу его, священнику отцу Михаилу — человеку, сведущему в скорбях и знающему слова утешения.
Жил о. Михаил неблизко — в подгородней деревушке Гаврилки. Идти туда следовало через железную дорогу, через речку и дальше полем. А надо сказать, нигде человек настолько не чувствует свое одиночество, как зимним вечером в российском поле. И так это ощущение срезонировало в больной сергеевской душе, что ему ужасно захотелось сесть прямо тут, в снегу, замерзнуть и превратиться в бесчувственную кочку... Но он себя пересилил и все-таки добрался до отца Михаила.