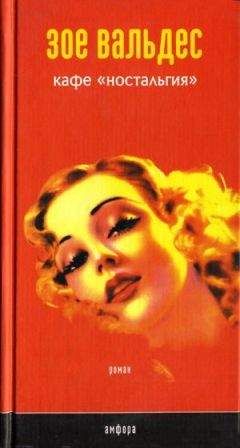А сейчас не знаешь, что лучше слушать: постоянно капающую из крана воду, что весьма актуально для новых парижан, или порывистый гаванский прибой, что доносится из морской раковины. Если бы я могла выбирать… Пожалуй, мне стоит воскресить в памяти тишину, мне – той, что никак не может унять в себе тоску.
Глава четвертая
Осязание, сомнение
Снова ночь. Еще одна ночь. Я вынуждена оторваться от тома «Под сенью девушек в цвету»,[159] потому что мне нужно ехать на телевидение. Сегодня утром я снова принялась перечитывать Пруста, но взяла не первую книгу, а ту, которую считаю самой трудной. Шарлин позвонила, чтобы напомнить, что у меня сегодня очередной важный политик. Бедная Шарлин, она мне не только вторая мать, но и живая записная книжка. Тебе нельзя упускать такую возможность, она тараторила так быстро, как только могла, захвати фотоаппарат, тебе удастся сделать пару снимков, покори его, убеди, что ты снимаешь для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень, объясни, что собираешь портреты тех, кого загримировала, подыграй ему, скажи, что лицо у него просто сказка (я уже знаю, что у него рыло дикобраза), в конце концов, польсти ему какой-нибудь глупостью, которая будет ему приятна. Знаешь, Шарлин, что я сейчас читаю? – спросила я, но ей не стоило труда догадаться. О нет! Не говори мне про Пруста, иначе я сожгу себя заживо. Смешно, но Шарлин заразилась манией кубинцев без всякой причины постоянно поджигать все и вся. И едва я так подумала, как передо мной возник образ Хорхе – моей сгоревшей любви, память о которой до сих пор жива. Сокровище мое, прервала меня, к счастью, Шарлин, а почему бы тебе не перечитать Рембо, Бодлера, Маргерит Дюрас?[160] Знаешь, mon bebe,[161] Дюрас весьма удобна для чтения: писала короткими предложениями, ну просто чудо какое-то, потрясающая минималистка. Шарлин почти удается меня убедить.
Сейчас я перед зеркалом в гримерной и, пока глаза не начинают слезиться и не мутнеет взгляд, увлеченно разглядываю горящие по краю лампочки. Приходит мой политик, за ним толпа подхалимов. Подхалимы везде одинаковые – все какие-то бесцветные. Что там говорить, и политики тоже. Прежде чем сесть в кожаное кресло, политик здоровается со мной, даже протягивает руку, демонстрируя свою близость к народу. Едва устроившись в кресле, он поднимает указательный палец, останавливая меня жестом.
– Как можно меньше касаться головы. Только я сам понимаю свои волосы и прическу, – властно приказывает он. – Заранее благодарю.
Я открываю свой инструментарий красоты и подготавливаюсь к макияжу протокольной рожи. Сначала очищаю лицо салфеткой для попок новорожденных, промокнув ею воспаленную и лоснящуюся кожу, и убираю шелушение. Потом втираю увлажняющий крем. От крыльев носа исходит вонь табака «Монтекристо номер девять» – я могу различить марку табака по запаху, недаром же я дочь работника табачной промышленности. Я отрезаю кусочек белой губки и набираю немного крема-основы.
– Как можно естественней, пожалуйста, – снова постановляет политик. – Я попросил, чтобы именно вы работали со мной, потому что к вам уже обращался один мой коллега. Весьма уважаемый человек, он считает, что вы превосходно владеете профессией. Когда я упомянул, что меня пригласили на этот канал, он тут же достал записную книжку и нашел ваше имя. Он говорит, что на следующий день после съемок программы все к нему подходили и сыпали комплиментами – так молодо и свежо он выглядел. Он тотчас разузнал на канале ваши координаты, чтобы при случае быстро вас найти. Вероятно, ваша профессия нелегка и утомительна, но видно, что она вам нравится.
– Это моя обязанность. Я профессиональный фотограф, правда, в прошлом, – дала я маху, нельзя было это говорить, теперь будет трудновато сделать его снимок, о котором меня просила Шарлин. – Не беспокойтесь, я использую полупрозрачную основу.
– Прозрачную? Но не кажется ли вам, что я несколько бледноват. Возможно, если добавить немного оттенка, то хуже не будет. Когда я сказал «естественней», я имел в виду загар. Обыкновенный загар, – делает он мне внушение.
– Как пожелаете, сеньор, – я чуть не сказала «ваше величество».
– Нет, ни в коем случае, вы лучше знаете все тонкости, просто я ни за что на свете не хотел бы выглядеть уставшим или больным какой-либо неизлечимой болезнью. Уберите синяки под глазами, не забывайте, что я мало сплю, работая над документами.
Он сказал мне «документами», как будто я его секретарша и не должна об этом забывать.
Самое худшее, к чему должен привыкнуть специалист по эстетике, это отвращение. А я так тем более, никогда мне не приучить свои пальцы к угрям с жирными белыми головками, образующимся от несоразмерного питания – много ветчины, копченой колбасы, жареной картошки и мороженого. А чего стоят прикосновения к волоскам и бородавкам. Одни лица гладкие, как яйцо, другие похожи на кратеры. Без сомнения, я предпочитаю гримировать женщин, хотя, конечно, женщины считают, будто лучше знают, что им подойдет, и потому выглядят довольно глупо, но, по крайней мере, они в своем подавляющем большинстве более опрятны, хотя и близоруки, как я, и не замечают черных угрей, а они-то вместе с крупными порами, забитыми грязью, прежде всего и вызывают отвращение. А вот морщины мне нравятся: меня привлекают рожи, похожие на города, в которых есть автострады, авениды, аэропорты, бухты. Бывало, я приходила в восторг от работы со щеками, схожими с кожурой апельсина. Вот и у этого моего политика красивый лоб, по которому пробегают шесть бороздок, параллельных краю поросшего бурьяном пустыря, ограничивающего город. Эти заросшие пустыри, думаю я, его полуседые волосы. И, размышляя так, я вдруг слышу храп – должно быть, я слишком увлеклась массированием висков, – из полуоткрытого рта вытекла тонкая, не толще нити для штопки, струйка слюны. Я промахиваю ее салфеткой для нежных попок младенцев, он просыпается, извиняется, слишком часто моргая и разрушая проступившей слезой матовый слой пудры «Ланком». Такое бывает с подобной клиентурой: пока ты их гримируешь, они либо засыпают, либо начинают потеть. Я должна заретушировать издержки – так мы называем подобные огрехи, – прежде чем снова приняться за реставрацию национального достояния.
– Не облизывайте губы, пожалуйста. Я положу на них цвет, соответствующий натуральному.
Я научилась некоторым хитростям у визажистки-каталонки, например, чтобы добиться телесного оттенка, следует засунуть несколько губных помад в микроволновку, расплавить их, затем хорошенько перемешать, придать им форму помады и дать остыть до затвердевания. Таким способом я получила натуральный розовый тон, даже более естественный, чем сама кожа. Я подстригла волосики в носу, подвела глаза, подчернила ресницы, скрыла морщины, расчесала и залакировала брови, снова подвела губы и отбелила зубы – и вот политика хоть в целлофан заворачивай. Готовый для какого-то там телемоста, он сам себя не узнает. Он еще раз хвалит мою руку, извергая на меня поток комплиментов. Даже заявляет, что будет рекомендовать меня высшим государственным чинам, которых он числит среди своих личных, причем очень близких, друзей и которым позарез нужны визажисты с хорошим вкусом и хорошей репутацией, и для меня, возможно, это шанс и пу-пу-пу-пу-пу – все эти протокольные сопли, почище чем либриум[162] размером с солнце, способные кого угодно усыпить или превратить в растение.
– Не разрешите ли вы мне сделать ваш портрет? Это для моей личной коллекции, я совершенствую свой профессиональный уровень, разглядывая законченную работу.
– Не вижу смысла отказывать, – он достает маленькую черепаховую расческу и приглаживает волосы. Ищет белую стену и, пристроившись возле нее, скрещивает руки на груди, принимая непринужденную позу, даже улыбается, отчего по лицу во все стороны ползут морщины – ничего больше не требуется, чтобы до неузнаваемости исказить лицо. Я делаю фото, а назавтра уже не буду знать, куда его девать.
У него слишком мало времени, чтобы выслушивать мои благодарности, его просят поторопиться и пройти в студию. Звукорежиссер цепляет на лацкан пиджака микрофон, режиссер дает последние указания. То же делает и ассистент политика. Все, министр перестал принадлежать мне. Еще слава богу, этот вел себя прилично, а то есть и такие, которым, чем накладывать тон и пудрить, хочется скорее выплеснуть ведро помоев в морду. И это, пожалуй, меньшее, на что может подвигнуть звание гражданина.
Я снова остаюсь одна в гардеробной гримерки, включаю телевизор – четырнадцать по диагонали, – хочу узнать, о чем говорит мой разукрашенный и омоложенный политический лидер. Ничего особенного, как я и думала, и впрямь сплошной чертов либриум. Лучшее средство от бессонницы. Пустая болтовня, они и наполовину не выполняют своих обещаний, но ты никогда не теряешь надежды. Не понимаю, мне-то чего, ведь я никогда не голосовала, даже не имела права выбора. Какой мерзкий тип! И зачем я так старалась над его физиономией! А вдруг его имя украсит анналы истории, а я потом буду думать, что и я немного причастна к этому. Да что ты знаешь, Марсела? Из таких вот передач можно много чего выудить. Несомненно, и своей жене он будет нести подобную брехню. Бедная мадам, должно быть, она постоянно слышит от него: то безработица, то финансы, то иммиграция, то нищета. Да что он знает о нищете? По крайней мере, он говорит, что она есть, это уже что-то, шаг вперед. «Раз, два, три, чей шаг прекрасный, чей же шаг прекрасный, чей же шаг, мой шаг, ведь я танцую».[163] Мне не удается сосредоточиться. Монотонный голос усыпляет, меня забавляет мое собственное сопение. Я клюю носом, однообразная скукотень телевыступлений навевает на меня сон, я соскальзываю в полудрему, мое излюбленное состояние, погружаюсь в воспоминания.