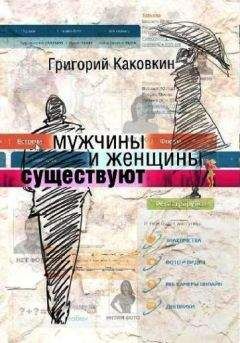— Звонок. Я тебя прервала… ты хотел…
— Нет, ничего не хотел. Ничего совсем.
— Ты мне хотел сказать…
— Я не хотел. Это вы хотели узнать, почему я до сих пор холостяк.
— Да.
— У меня нет никаких проблем, о которых вы, возможно, подумали, — с некой обидой в голосе сказал Раппопорт. — Никаких.
— Нет, Аркадий, меня это не волнует. Я даже мечтаю о безопасных мужчинах — на сайте столько всего, какое-то помешательство, — сказала Тулупова, но сама знала, что обманывает, эта сторона жизни неожиданно для нее самой становилась какой-то параллельной дорогой, параллельной ее прошлому, ее детям, ее Червонопартизанску. Она шла по своей скромной, библиотечной тропе, а рядом строилась магистраль, завозили щебень, песок, укатывали, утрамбовывали, работали большие машины, и теперь ее уже не удивляли вопросы на сайте в разделе “автопортрет” “хотели бы вы увеличить грудь?”, “возбуждает ли вас порнография?”, “как часто вы хотели бы заниматься сексом?”. Если есть такие вопросы, значит, они откуда-то появились, они кому-то нужны, на что-то непременно отвечают. И рядом с ними, или между них, среди них, лежит и греется на солнышке ее собственное, не дошедшее до нее счастье.
Раппопорт складно объяснил, почему никогда не был женат. Его жизнь была похожа на слежавшийся в школьном портфеле бутерброд, любовно приготовленный еврейской семьей. Один слой — девушка Соня, одноклассница из математической спецшколы где-то в центре Москвы, она вышла замуж, пока он сидел и учил французский в зоне. Другой слой — ожидание. Его чувства к ней. Некий выдуманный объект — несчастная Соня уже в браке с мужем, тираном и распутником. Потом еще один
слой — развод Сони с мужем, и уже Аркадий вместе с ее ребенком в однокомнатной квартире своей еврейской бабушки. Тонкий слой, как лист салата — беременная Соня от Аркадия, и потом отъезд в Америку Сони, которая наконец-то нашла то, что искала, и теперь в США у Аркадия растет дочь, называющая чужого американского мужчину папой. Тулупова слушала хитросплетения этого захватывающего сюжета, понимала, что он захватывающий, что это точно бестселлер, но не улавливала сути, не вникала, просто набор известных слов — расставание, соединение, будто демонстративный учебный опыт, реакция кислорода и водорода в кабинете химии. Рядом с ней, мешая слышать и думать, буквально за спиной, находился Вольнов со своим взрывным желанием и боем таймера, установленного на час. Она кивала, поправляла волосы, делала еще какие-то нервные показательные жесты, слушая Аркадия, но думала только о нем.
“Как он посмел, что я, девушка по вызову, что значит “приезжай”. С другой стороны, думала она, — “он меня ждет, он позвонил”. И она вспомнила рыжего кота, который, мягко ступая по кровати, прожигающе рассматривал ее в темноте. Что он видел в ней? Он видел в ней то, что и назвать страшно, — ее тягу к мужчине. Оскорбительную. Ее желание быть раскатанным тестом, ее мнимую независимость и холодность, ее бесстыжее лицо немолодой женщины, которая пришла к нему и хочет остаться.
“Наверное, он считал, что я претендую на его размороженную треску, но на что-то же я претендую? Не с французом — ему я должна сказать что-то сочувствующее. Я и вправду ему сочувствую. Почему обижают евреев? Если у них не складывается, то не складывается всегда по-настоящему”.
— Аркадий, тебе тяжело знать, что дочь там, а ты здесь? Я бы не смогла, это невыносимо.
— Нет. Я подумал, какая разница, кому принадлежат дети, все дети — дети,
твои — мои, дети и дети, надо просто не различать где, чьи. Я сначала очень переживал, а потом переводил один текст, про единую Европу, глобализацию и всякое такое, и там писалось про верденскую мясорубку в Первую мировую, где за границу между Францией и Германией погибло с той и другой стороны миллион человек. А сегодня — ничего. Нет границы. И никто не знает — за что гибли? Сто лет всего прошло. Даже меньше. Все, за что они умирали, не существует. И мне показалось, что мы переживаем, переживаем, а потом — все, конец. Приедет моя дочь ко мне или нет — никакой разницы. Моя мама говорит, что нельзя жить только одной женщиной. Их должно быть много…
“…он, наверное, умный — говорит непонятно, но дети могут быть только мои”.
— Дети могут быть только мои, — сказала Тулупова, оставляя в стороне свои мысли про несчастных евреев и про ум Аркадия. — Дети — всегда мои.
— …только кажется, они все равно от тебя уйдут.
— Я чего-то не понимаю. Где тут метро?
Вольнов стоял за спиной. Когда Раппопорт говорил, как назло долго, Людмила думала только об уходящих минутах.
— Еще две троллейбусных остановки.
— Давайте, давай, Аркадий, пойдем быстрее, мне надо домой. Я вспомнила.
“Неужели я так его хочу. Я его хочу или я хочу его видеть? Сколько мне лет? Это стыдно”.
— А может быть, мы куда-нибудь сходим, — робко предложил Аркадий. — Мы могли бы…
— Мы уже сходили. Для первого раза хватит. Вы еще подумаете про меня, и вам… тебе, — поправилась Тулупова, — … покажется, что я не нужна вам. Тебе.
— Вы мне очень понравились, Мила.
“Я, наверное, о нем должна мечтать — он меня может любить. Но я почему-то встретилась с Вольновым. С ним, а потом…”.
— Мы встречаем Новый год вместе. Я вас, я тебя пригласил.
— Спасибо. Ты первый, кто это сделал. Но до Нового года еще далеко.
— Когда увидимся? — спросил Аркадий около входа в метро, когда они прощались.
— В следующие выходные.
— Почему?
— Потому что работа и дети. Мои. И вообще, я не думаю, что надо торопиться. Ты подумай еще, с кем связался…
— Тебя можно поцеловать?
— А надо?
Аркадий пожал плечами.
Уже не один перегон между станциями она смотрела на извивавшиеся жгуты электрического кабеля за стеклом вагона. Они тянулись на стене туннеля, изгибались, создавая завораживающую инсталляцию. Игра кривых параллельных линий, толстого и тонкого кабеля, приближение и отдаление, невероятная схожесть судеб, будто мужчина и женщина в темноте туннеля ищут невероятную, невозможную точку пересечения. Тулупова после каждой остановки и стандартного объявления диктора снова ждала подсказки извне: знака. Она подсчитала, что через пять остановок, если она едет к Вольнову, ей надо выходить, и через пять минут закончится час, когда он ее ждет. Она точно решила, что позвонит, если, конечно, позвонит, — все это было еще под вопросом — только после того, как пройдет этот унизительный час, но она не знала, почему ей необходимо играть в эту невзрослую игру сопротивления мужчине и своему желанию его видеть.
Толстый и тонкий кабель продолжали метаться по стенам туннеля, демонстрируя особую, завораживающую камасутру летящих, рисованных, черных линий.
Она думала о своих новых мужчинах, о Раппопорте с двумя “п”, спортивном журналисте Вольнове, кремлевском аналитике Хирсанове со Старой площади, и ей, в очередной раз, стало удивительно понятно, что никогда без сайта знакомств и интернета она не могла бы рассчитывать на такие жизненные пересечения. Как два жгута проводов за стеклом вагона метро — каждый со своей информацией и адресом, природой — ее жизнь была проложена в ином пространстве. Она могла бы с этими мужчинами стоять или сидеть рядом в таком вот вагоне или автобусе, может быть, неведомым образом, кто-то из них мог получить в библиотеке книгу из ее рук, но оказаться близко, говорить и думать о любви вместе они не могли бы никогда. Знаки внимания и сообщения по электронной почте, несколько телефонных звонков, встреча, знакомство — и она знала о них почти все. По неписаным правилам сайта уместны любые вопросы. Она легко могла спросить о работе, житейских привычках, прошлых влюбленностях, о семье, о детях, о росте, о весе и о сексе — он ему нужен ли вообще, и сколько раз в неделю. И на все будет получен честный ответ. Единственное, где терпелась ложь, — это возраст, который наступал с неотвратимостью тайфуна и разрушал до голой земли любую личную жизнь. После определенных цифр, где-то сразу после пятидесяти, она это знала, из любви решительно вычеркивали и вопросы исчезали. Иногда ей казалось, что эта открытость против нее, против рока и судьбы, против случайных встреч, которые всегда определяли ее жизнь. И Стобур, и спившийся Авдеев возникали из ниоткуда, заворачивали с соседней улицы, приходили и исчезали, иногда оставляя после себя детей или погружая в долгие душевные муки, но здесь все было иначе. Теперь она выбирала, и ее выбирали, словно в магазине, где продавались живые мужчины и женщины. Она точно не знала, эта торговля — покушение на судьбу, на то, как она задумана на небесах, или это была та же самая судьба, только в других одеждах? Сейчас она не могла решить — выйти на остановке из вагона или остаться, и это решение — судьба или что-то другое, намного проще?
“Осторожно. Двери закрываются…”