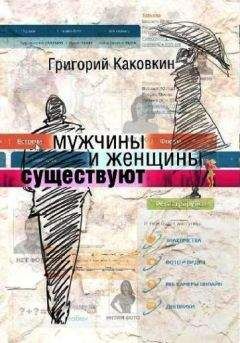Тулупова и Стобур забрались в кабину.
— Майна, — почему-то скомандовал Пашка.
Дикими криками и свистом его поддержала девушка.
— Макарыч, давай!
Тракторист плавно подтолкнул машину, она пошла легко, набирая ход. Стобур дождался необходимого разгона, включил передачу сцепления и завелся. Трактор остановился.
— Ей, ей! — Пашка махал руками. — Стоп! Стоп!
Макарыч всей пятерней нажал на черную сигнальную кнопку на руле и несколько раз подморгнул фарами.
— Они машут, нам надо, наверное, расплатиться… — робко, в темноте кабины произнесла Людмила.
— Да пошли они… — выругался Стобур и через минуту, специально для Людмилы, чтобы не переживала и в голову не брала, прибавил: — Нам останавливаться нельзя, а то опять заглохнем.
Потом, в поезде, она поняла, что это было неправдой, и позавидовала девушке Тане, что у нее есть свой, родной, нормальный Пашка.
“Дорогой Павел, вот я приехала. Я все сделала, как ты хотел: ты хотел, чтобы у Клары был отец, чтоб все было, как было бы у нас. Ты хотел? Хотел. И я хотела. И что? Ничего. Ничего-ничего. Хорошо, что увидела папу с мамой. Правда, поговорить не пришлось. Отец пьет. Или выпивает. Не поймешь. В общем, не хочу об этом вспоминать, хотя мне казалось, что Витю можно было полюбить. Один раз показалось было. Я думала, что получится. Но. Потом, знаешь, Павлик, я поняла, что он не летчик. Никакого неба. Летает и не видит, ничего не видит. Если у меня задержки не будет, значит… Нет, ничего не значит. Просто я ездила за счастьем в Червонопартизанск, а его там нет. И все. Никого не видела, никого не встречала. Прожила и прожила — так же бывает? Бывает. Не всем везет. А Кларку я воспитаю, знаешь как? Ух! Правда. Воспитаю. Зато мне сегодня повезло. Я иду с коляской к лифту, с гулянья. А там ветеран войны с пятого этажа или шестого говорит — вам не нужен холодильник. Я говорю — какой. Он говорит ЗИЛ двухкамерный. Я говорю — сколько он стоит, много переплачивать не могу. А ему дали открытку как ветерану войны, а у него холодильник есть, и ему не хочется перепродавать открытку — спекулировать. Он говорит — мне ничего не надо. И все. Не надо, так не надо. Я ему говорю, дедушка, давайте я вас поцелую. И поцеловала. Потом мы поднялись к нему на этаж, и я зашла в квартиру. Однокомнатная, хорошая квартира. Стенка там, и все так аккуратно. Жена у него умерла. Дочь за границей, с мужем работают. Ему холодильник не нужен, а мне позарез. Он искал открытку на получение холодильника по всей квартире, а я подумала, что вот он — мой жених. Самое нормальное. Мне ничего не надо, но мне же тоже хочется нормального, нормального счастья… Сейчас думаю, он набросится, как партизан Лученко, а я скажу ему — на, пожалуйста, сколько хочешь, груди твои, делай что хочешь. А он порядочный, ему ничего не надо. И — мне. Свой “Морозко” двадцатилитровый отдаю на дачу Шапиро, а мне завтра привезут новый ЗИЛ, последней модели. Как хорошо, что есть хорошие ветераны Великой Отечественной войны! Да здравствует победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов! Ура! Я живу! Теперь с холодильником”.
Запах чебуречной плох только в самом начале, при входе, потом его начинаешь любить: немного водки, теплый бульон из чебурека, который неплохо бы выпить и не посадить жирное пятно на одежду, люди, имеющие что сказать во всеуслышание, — такое все родное.
Аркадий смотрел на Тулупову и понимал, что эта женщина может взять за его руку и отвести, как ребенка, в любое место, может сделать с ним все, что захочет, наверное, это называется “его женщина” или как-то иначе, но слова решительно ничего не объясняют. Из любого места его души и тела был только один громкий сигнал — “это она”. Он смотрел на нее, слышал, чувствовал, и все, как в пазле, соединялось, сходилось, совпадало. Глаза голубые, голос с неуловимыми остатками украинской мови, невысокий рост, грудь, конечно, но и это не все. То, что умещается в слова, — пустяк, поверх слов и объяснений было еще что-то, что вынимало его из лунки без крючка и наживки. Людмила Тулупова видела его взгляд, и ощущение власти над этим мужчиной стало очевидным. Она испытала свою силу над ним с самого начала, еще тогда, когда разговаривала по телефону, с самого первого слова, но только теперь это проявлялось во всем. Его можно брать и выступать с ним в цирке: номер с дрессированным мужиком, который будет показывать чудеса верности и преданности, головокружительный, смертельный трюк под куполом — “отдаю все”. Новый год и все прочие календарные праздники, день знакомства, день первой близости и шаббат лично для нее триста шестьдесят пять дней в году — все это огромное приданое взрослой женщине за сорок доставалось как джекпот — распишитесь и проходите к кассе. Но ноги не шли. Тулупова готова была с ним лечь, но так, чтобы он это сделал быстро, расслабился, ушел и они больше никогда не встречались. Ей было жалко его, по-настоящему, серьезно, как жалко и себя — ей нечем ответить на его выбор. Чувства каким-то неведомым образом обтекают ее, как воздух в аэродинамической трубе обтекает автомобиль. И водка не помогала. Они шли по проспекту, начинало темнеть, солнце ложилось в предпраздничное небо на крыши домов, за дома, и было легко сказать в эту погоду — я тебя не люблю, ты не мой человек, но сказать это было страшно. Аркадий то молчал, то начинал что-то рассказывать, но она не запоминала, это была просто речь, слова, сочетание гласных и согласных, она думала, что с ним, с этим евреем, вот так можно жить: он будет говорить, и рядом можно быть совершенно одной.
— Аркадий, у вас было много женщин? То есть у тебя было много, ты хотел на всех жениться? — неожиданно спросила она, доставая этот вопрос из своего монолога. — На всех или не на всех?
— Мила, вы хотите меня обидеть? У вас это не может получиться.
— Почему? — спросила Тулупова, хотя понимала, что он прав, ей не хотелось его обижать.
— Потому что ты другая.
— Хорошо. Но это не снимает моего вопроса, Аркаша, сколько у вас было женщин, почему ты не женился до сих пор?
— Не женился, — подтвердил Аркадий.
— Это подозрительно все же.
— Но и вы, то есть ты, я все еще не привыкну, мне на какие-то темы хочется говорить “вы”, а на какие-то “ты”…
— Ну…
— Ты тоже, говоришь, не была замужем.
— Почти. Два года у меня в паспорте все же отмечены, реально меньше, но я
что — двое детей погодков, кому я была нужна при таком дефиците жилплощади в стране — со мной все понятно. А с тобой?
— Я не хотел бы об этом говорить.
— Почему?
— Мил, потому что ты спрашиваешь просто так, ни для чего. Мне это больно, я не привык говорить об этом, мне кажется, что человек должен молчать о том, что с ним было в личной жизни, мало ли что бывает и почему. Ведь если вы, ты — я все не привыкну — станешь мне говорить про своих, что там у вас было и как, зачем это — что это дает, я не знаю. Мне кажется, что…
— Извини, Аркадий, я только отвечу на звонок.
Тулупова некоторое время искала телефон в сумке и, достав его, сразу узнала две последние цифры. Она очень хорошо их запомнила, набирая много раз, она боялась, что Аркадий увидит волнение, которое они произвели в ней, и, отвернувшись в сторону, сказала ему отрывисто:
— Это сын. Или дочь. Из дома.
— Да, — ответила она Вольнову.
— Мил, ты?
— Да.
— Ты меня узнала?
— Да.
— Ты где?
— Гуляю.
— Одна?
— Да.
— Я хочу тебя видеть. Приезжай ко мне.
— Куда?
— Домой, туда, где была, — я тебя встречу.
— Да. Понятно.
— Приедешь?
— Нет.
— Я не пойму: то “да”, то “нет”. Ты разговаривать не можешь?
— Да.
— Я хочу тебя. Я хочу тебя очень, — сказал Вольнов. — Как сможешь поговорить, перезвони. Я жду твоего звонка. Ты где, в кино, что ль?
— Нет.
— С кем-то уже в кровати?
— Нет-нет.
— Хорошо, — ответил Вольнов. — Я больше не гадаю — я жду твоего звонка в течение часа, а потом, если не перезвонишь, пойду в клуб с ребятами выпивать. Все, жду.
— Хорошо, — ответила Людмила, но Вольнов этого не услышал, у него была привычка, говоря по телефону, не дожидаться последних слов.
Тулупова закрыла мобильный телефон и положила его в сумочку, бережно, как гранату. Теперь он лежал там с взрывным словом “хочу”.
Аркадий наблюдал этот короткий разговор с чередой “да” и “нет”, но ничего не заметил на лице Тулуповой, которая считала, что обман всегда заметен. Она так долго объясняла это детям, что поверила сама. Конечно, я ему ничего не должна объяснять, думала она, строго говоря, у меня ничего с ним нет, и не будет, но не хотелось, чтобы Аркадий знал о ее жизни больше, чем она хотела сказать.
Когда эти мысли пролетели, она не смогла вернуться в разговор, совершенно забыв, о чем они говорили с Раппопортом.