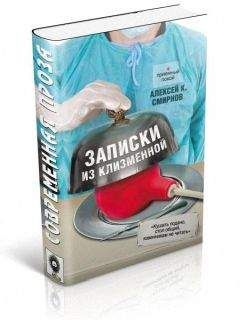– Ты в больнице. Понимаешь? Повтори.
– Я в больнице, – важно согласился тот.
– Мы – врачи.
– Вы – врачи.
– А ты больной.
– А я больной.
Пришла комиссия.
– Вот, ориентирован, все понимает, – затараторил доктор. – Можете проверить.
Комиссия приблизилась к постели больного.
– Где вы находитесь, скажите?
Тот задумчиво закатил глаза:
– А хуй его знает…
– Ну а мы вот, вокруг вас, в халатах стоим – кто мы такие?
Клиент задумался еще крепче.
– Вы? Люди тяжелого труда.
Беседую с приятелем-реаниматологом. По ходу дела возникает вопрос, занимающий меня по жизни, есть одна такая тема:
– Слушай, а вот есть вредная тетка вроде как после инсульта, всех извела за годы лежания, житья от нее нет, дергает людей с интервалом в две минуты. Чем бы ее грамотно притормозить?
– Ну, тизерцинчиком, – задумчиво басит доктор.
– Тизерцинчик знаком, как же. А он в таблетках бывает, я забыл?
– Бывает. Я своего деда кормил.
– Тормознулся?
– Да так… Через два месяца сошел с ума. Ленина увидел. «Ленин, – говорит, – добрый. Он мне штаны подарил».
Мелкий, почти бессодержательный эпизод.
Но я его запомнил, как важный этап становления докторского сознания.
Я уже где-то писал, что доктор не может позволить себе помирать с каждым больным. Эту глупость выдумали ипохондричные романтики, мечтающие уволочь доктора с собой в могилу.
Практика начинается с возведения стеночки, прозрачной. Но плотной. Меня начали обучать этому строительству с первого дня работы в поликлинике.
Пришел ко мне, скажем, Сомов. Может быть, его и в самом деле так звали. Едва ли не первым пациентом. Ну, Сомов он был как Сомов – такой из себя весь, как Сомову и положено. Он куда-то намылился ехать, в санаторий какой-то, и сильно спешил с бумагами. Не помню, в чем там было дело, но ему позарез нужно было посетить меня повторно, на следующий день, с утра, тоже первым. А дальше он поедет, иначе опоздает. Во всяком случае, очень рискует, и будет ему плохо.
А у меня будет очередь. Не мог бы я его вызвать из коридора пораньше?
Я тогда еще не умел работать в поликлинике и согласился. Почему бы и нет? Вызову его завтра пораньше. Впишу ему анализы, оправдаю насчет яйцеглиста и отпущу.
Сомов, ликуя, ушел, а утром вернулся. До него ко мне вошла бабулька и передала свернутую записку-бумажечку. Так сводни передают любовные письма. Я развернул бумажечку и прочел корявое: «Доктор, вызывайте Сомова».
– Сомов! – закричал я в коридор.
И он вошел.
И вскоре ушел, окрыленный. Я же, когда он еще был при мне, отчетливо ощущал, как Сомов засасывает меня внутрь, приобретает надо мной мистическую власть. Между нами образовалась неожиданная связь. Я почувствовал, что отныне Сомов может делать, что ему вздумается, а я не смогу его выгнать.
Перекусил пуповину, и больше она, как водится, не вырастала. Сомов еще, скорее всего, приходил, но я его не запомнил.
Когда пролетела утка и накрякала про аварию на ЛАЭС, медицинская обыденность отреагировала предсказуемо.
Главный невропатолог сидел у себя в кабинете и сосредоточенно строчил какую-то ерунду.
Вошла главная сестра. Молча, без единого звука, прошла к окну и закрыла его. Было жарко.
– Ты что, охуела, чего творишь?
Надменно:
– Газеты надо читать!
– Что такое?
– «Что-что». Чернобыль, вот что!
– И что, если закрыть окно, все будет в порядке?
Медицина – глоток чистого воздуха.
Когда-то я им дышал во все легкие, да вот ушел на глубину и всплываю все реже и реже.
Давеча всплыл.
Позвонил товарищу, тоскливо интересуюсь:
– Как оно там, в больнице?
– Да… – хрипит он сумрачно. – Скучно. Ничего такого интересного нет.
– Что, совсем ничего?
– Не… Полковник один лежит, поглупел так резко, что даже в армии заметили. Уволили… Говном стал кидаться. Жена три дня терпела, а потом сдала… Ну, что еще? Из окошек тут прыгали, но это ерунда…
– И белочка не радует?
– Не, не радует… Тут День туриста был, так мы все сидели-ждали, когда кто-нибудь нажрется. Один не обманул, до комы… Думали – все… Но часа через два заворочался. Все трубочку пытался из горла выплюнуть, мешала.
– Даже дырку сделали в горле?
– Ага… Мы смеялись, не помогали… Гляжу – бланш у него под глазом; потом вспомнил, что это я же его будил… Он когда очухался и стал отвечать на вопросы, все объяснил… Работяга… Сказал, что ему зарплату пивом выдали…
– А так все тихо?
– Да… Уходить надо… сдаю я что-то…
Больница.
Собрание, разные вопросы, уровень высокий.
Раньше такое называлось товарищеским судом. Теперь никак особо не называют.
Выступает административная женщина, образование высшее, должность внушает любострастие. Ее негодование не имеет границ. На повестке дня – сотрудница непечатного поведения. Аудитория взволнованно кивает, согласная искренне.
Выступающая кипит.
Дескать, эта сотрудница такая вся из себя. Наглая. Короче, медсестра. Пьет, курит и многое другое. Ей раз сказали по-хорошему, а она все равно. Ей два сказали по-хорошему, а она все равно. Ей три сказали по-плохому, а она опять. Да что же это такое? Ее уволили. А она снова пришла. Побыла немножко и…
Ораторша округляет глаза в изумлении:
– Восстала, как фенис из пекла!
Друг-реаниматолог жалуется:
– Тоска какая-то, никакого яркого бреда. Какие-то идиоты просто, уроды.
– ??
– Ну, не знаю. Ну, вот лежит один. Опился. Лежит и вообще ничего не говорит. То есть просто ничего. Только глазами по сторонам зыркает – видно, что ему все очень интересно.
– Так может, паралик у него какой?
– Да нет, просто опился. Ну, получше стал. Три дня зыркал, потом материться начал.
– Разобрался?
– Ага. Я ему трубу воткнул, кислородом дышать и молчать дальше.
– Теперь снова зыркает?
– Ага, снова. Как раньше. Лежит. Я вчера хотел его в люди выписать.
– Да. В такие же.
Чем примитивнее организм, тем ему безопаснее.
Маменька рассказала про санитарку, с которой работала давно, еще при старом режиме, в отделении послеродовых заболеваний. Маменька им заведовала.
Эта санитарка ничем особенным не выделялась. Пожилая уже, тихонькая. Когда маменька кого-нибудь обрабатывала, санитарка часто стояла за спиной и смотрела. Маменька ее не гнала: пускай смотрит, если интересно.
А потом санитарка уволилась, и о ней долго ничего не было слышно. Пока не выяснилось, что она сидит в тюрьме.
Оказывается, она не просто смотрела. Она была себе на уме, запоминала. Потихоньку таскала к себе инструменты, пока не собрала набор. И когда решила, что уже пора, сделала кому-то аборт. За что и попала в тюрьму, потому что убила.
И дали ей за это два года.
Я это к чему? Я к тому, что если бы такое устроил дома дипломированный доктор с квалификацией, он получил бы намного больше. А с того, кто официально ни хера не соображает, спрос невелик. Он просто не подумал и нечаянно.
Вы приглядывайте, друзья, кто там у вас за спиной стоит и смотрит.
А вот еще однажды, как вспоминает маменька, ее роддом консультировала одна Марья Николаевна.
Терапевт.
Ходила все, ходила.
Первые подозрения появились по ерунде: всего-то и написала, что не был обнаружен яйцеглист.
Но потом, когда она назначила гипотензивные средства, маменькины подозрения почему-то усилились. И она решилась спросить:
– Марья Николаевна, а вот вы назначаете гипотензивные средства – они от чего, по-вашему?
– Они от тенезмов.
Маменька сказала:
– Марья Николаевна, забудьте, пожалуйста, к нам дорогу. Забудьте, что существует этот адрес. Настоятельно вас прошу.
Та и забыла.
В защиту Марьи Николаевны можно сказать, что она ни в чем не виновата. У нее вообще не было диплома, как потом выяснилось.
К нам постоянно возили разные травмы. Попадались среди них просто возмутительные, взывавшие к отмщению. Сразу же сообщали в милицию: такой-то и такой-то, получил по лицу тяжелым тупым предметом. Может не выжить. Неизвестный.
И вот однажды такого доставили, но известного. В смысле, при нем имелись документы и даже сопровождающие.
Какой-то очень взволнованный, вежливый и деловой человек его сопровождал. Товарищ его.
Ну и стали все эту травму смотреть, обмывать, зашивать, бинтовать. Вежливый человек-товарищ в это время без устали тараторил по телефону. По мобильному. Тогда мобильные телефоны еще не у всех были, это внушало некоторое почтение. У меня, например, не было. И у остальных докторов тоже.