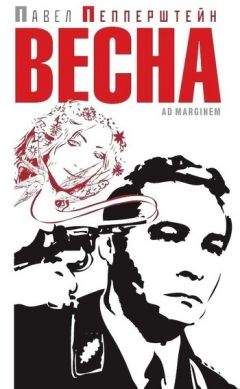Володенька, кончаю письмо. Спасибо тебе, что пишешь регулярно. Стараюсь писать тоже как можно чаще, чтобы ты не скучал. Не сиди, пожалуйста, ночь напролет над работой. Принимай снотворные капли, если не спится. Желаю тебе здоровья!
Твоя Надя.
…А В ТЕМНОЙ УБОГОЙ КОМНАТЕ СИДЕЛ МОЛОДОЙ МЕДИК…
Милая Наденька!
Несказанно благодарен тебе за твои письма! Думаю, ты, Надюша, правильно предпринимаешь. Возможность свидеться с королем считаю чрезвычайно счастливою, постарайся использовать ее со всей тонкостью, какая тебе свойственна — впрочем, письмо это придет уже после твоего визита в Версаль, да ты и не нуждаешься в советах. Знаю, что заставишь зазвучать опутанный паутиной рояль роялизма. Очень благодарен тебе, душенька, и за то, что подробно передаешь в последнем письме разговор с Димой и рассказ его о делах в Петербурге. Ко мне почта из Петербурга совершенно перестала приходить, работает лишь «китайская почта», которая приносит мне твои любимые послания: исписанные милым почерком рваные полоски желтой бумаги. Димины слова о папеньке и маменьке я прочел с волнением: сразу вспомнилась последняя наша встреча, перед отъездом моим в ссылку. Они сидели в креслах, отец с «Педагогическим вестником» в руках, маменька с вышиванием. Ты еще помнишь моего отца в Симбирске, когда он учил в гимназии, — как он тогда был величественно бодр, зевсоподобно бородат, как грохотал, вырываясь из коралловых губ, его жизненный смех! Бывало, он закладывал пальцы в кармашки жилета и, раздвинув пиджак, стоял посреди веранды, словно майский жук, излагая какой-нибудь пассаж социалистов-утопистов. Однако теперь он, отложив газету, сухо посмотрел на меня через пенсне и спросил:
— Куда собрался, Владимир?
— Меня высылают в Шушенское, отец.
— Вот как. Что ж, не стану спрашивать тебя ни о чем. Скажу только, что мы, Ленины, всегда были осторожны, отважны, томительны, тихи, суровы, задумчивы, внимательны, энергичны, радостны, ужасны, красивы и строги. Мы, Ленины, всегда береглись зной-травы, любили ночь, боялись зверей, прыгали над кострами, шептали заклинания, обожали свою душу (а ведь сказано: кто не возненавидит своей души, не спасется), жертвовали всем, болели ангиной, лизали ледок и крались в сумерках. Мы всегда отражались в зеркалах, носили крестик, умели сосать лимон, не морщась, любили будущее и дико страшились боли. По рассеянности мы часто съедали рыбу с костями, яйца со скорлупой, мандарины со шкуркой и легко разгрызали орехи. Мы всегда были доверчивы и нежны, но посвист комнатных птиц предупреждал нас об опасности. Мы ходили в темноте, заглядывая в освещенные окна, и любили смеяться на рассветах. Мы отбрасывали тень в солнечную погоду, но мы много страдали оттого, что слишком любили людей и себя. Мы хорошо учились в школе и больше привязывались к учителям, нежели к одноклассникам, однако мужчины в нашем роду рано лысели и иногда забывали о себе. Тем не менее, мы постоянно знали истину, могли за себя постоять и были трепетны сердцем.
— Да, — добавила маменька, поднимая голову от вышивания. — К тому же мы, Ленины, всегда помнили себя до рождения, любили грибы, хватали с неба звезды, нарочно пугали маленьких детей стуком зубов, наизусть знали Писание, теряли стеклянные шарики, боялись воды и снов, слегка картавили, умели выть на луну, думали о смерти, восхищались большими породистыми псами. Кроме того, нас всегда трогал вид новорожденных, пугала гроза и запахи цветущих трав, а музыка заставляла плакать.
— К тому же, — добавил отец, пропуская сквозь пальцы раздвоенную бороду, — мы всегда далеко обходили места пожарищ и квартиры, где случалась кража, а, узнав о самоубийстве, зажмуривали глаза и незаметно покусывали язык. В чай мы выжимали лимон и клали два кусочка сахару, а к водке всегда просили подать суп. Запомни, что мы никогда не крестились на луну, не дарили никому горящих бумажных цветов, не хохотали в церкви, не скакали через поваленную сосну, а увидев потухший костер, шептали: «Спи, спи огонек, покуда не вышел срок!»
Я не сказал ничего. Я поднял ослабевшую руку и помахал прощально, точнее, просто пошевелил пальцами, и стал удаляться по коридору, пятясь, натыкаясь спиной на углы черной мебели. Они тоже махали мне из кресел, немного сонно, сухо. Потом отец поднял газету, а мать нагнулась к вышиванию. В прихожей меня ждал Фармаковский, подавая мне на плечи пальто. Мы вышли в пургу, и вьюга поглотила нас с нашим саквояжем.
Это воспоминание теперь кажется мне далеким берегом, от которого давно отчалило мое судно, и уже не верится, что увижу снова ту гостиную, те кресла с их обитателями… Кончаю письмо, Надюша, прощаюсь с тобой и целую твои пальчики!
Всегда твой нежный муж
Володя.
Дорогой Володенька! Сердце мое! Это, наконец, свершилось, и отныне все будет хорошо, по милости Господней мне удалось сделать все — гордость за содеянное переполняет меня, и благодарность, и ликование — свобода тебе обеспечена, осталось потерпеть тебе и помучиться совсем немного, и вскоре уже смогу я заключить тебя в свои объятия и нежными поцелуями стереть с твоего лица следы неволи и горя!
Ты спросишь: «Что? Что случилось?» Отвечу, спеша: «Я видела французского короля!» Если б знал ты, сколько пришлось обойти мне подводных глыб, сколько учесть течений, сколько сплести и расплести интриг (от которых саму меня порой бросает в холод от отвращения), как тонко и коварно пришлось играть мне на струнах различных человеческих душ и отдушин, иногда столь бесчестных, но в их глубине все же гнездятся эоловы арфы… Гнездятся и выводят там птенцов — эоловых арфят, с пуховыми новорожденными струнами… Арфята! Птенцы! Им придет пора вылететь из своих гнезд!.. И они летят!.. Ох, смех счастья душит меня, я обрызгала все письмо каплями яблочного сока и чернил от негаданных вспышек счастливого смеха, перо несется по бумаге, словно выпрыгивая из рук, в нем живет память птичьего крыла, живет упругость, воздушность и водонепроницаемость, сообщая эти качества моему торопливому слогу, а глаза мои так горят и сверкают, что в зеркале напротив скачут, как будто два веселых бриллианта… Фу ты, вино за ужином, а сколько таких ужинов, с вином или невинных, иногда тошнотворнейших ужинов, пришлось мне пережить, чтобы добиться аудиенции, чтобы припасть к высочайшим ногам… Ты знаешь, я не поклонница монархии, но и он не монархист, и у него, как выяснилось, нет ног… Впрочем, не подумай ничего дурного — скажем, что Он инвалид или увечный (или это одно и то же?), а тут совсем другое…
Впрочем, все по порядку!
Я собралась с мыслями, я нарисовала на полях своего письма — видишь? — сердечко. А еще, очень-очень меленько, филигранно (надеюсь, ты разглядишь остреньким зрением своим) нарисовала пятиконечную звездоньку, всю в лучах, а внизу под ней рощу пальм и целую гирлянду слонят, которые вышли погулять перед сном. На каждом слоненке попонка.
Но — все по порядку! Версаль великолепен! Вот где порядок! Сама высочайшая идея космического Порядка и Гармонии воплощена в образе Версальской горы! Мы (то есть я и Кледомская) оказались у ее подножия рано утром, после утомительного путешествия в поезде, что ходит в Версаль с парижского Южного вокзала. Ехали третьим классом, затемно, среди рабочих и служащих контор, которые все курили и кричали громкими голосами, у многих на лицах блестела испарина — признак парижской лихорадки. Мои глаза слезились от дыма и недосыпания, но я сквозь слезы все вглядывалась в эти лица, в лица парижского пролетариата, и думала: «Это их предки когда-то штурмовали Бастилию, это их деды и отцы низвергли монархию, это они — простые, смелые, бойкие и громкоголосые люди с вонючими сигаретами в руках заключили „Гражданский союз между Богом и людьми“ и на основе этого союза возвели здание великолепной и загадочной Республики — той, что называют ныне Республикой Французского Короля».
Отсюда, из Версаля, золотой свет этой Республики распространяется по миру, добрызгиваясь до самых далеких угрюмых уголков. Один из этих лучей, тонкий, но сильный, вскоре долетит до дремучей Шуши, до белого Саяна, до одинокой избушки, и вырвет тебя из плена! Свободу и честь возвратит тебе, мой Володенька, и в тонкий золотой венец совьется на твоем челе, и вовеки не угаснет вокруг твоей головы царский свет! Ой, кляксонька!
Извини…
И вот мы стоим у подножия Версальской горы, а она ярусами уходит ввысь, вся покрытая садами, серебрящаяся издали фонтанами, сверкающая чешуйчатыми крышами павильонов, блестящая мокрыми и сухими статуями… Мы начинаем восхождение. И чем выше поднимаемся мы — то мраморными лестницами, то каскадными тропами — тем свежее и благоуханнее воздух, и небо, открываясь все шире, наливается утренним светом, и первые лучи летят из-за горизонта над пробуждающейся землей. Сады вокруг нас полнятся гамом птиц, равно как и людскими голосами и песнями: спозаранку встали садоводы, и повсюду кипит работа — а как иначе? — ведь на дворе весна. С весельем работает свободный народ. Нередко толкали нас, проходя, садовыми лестницами, ведрами, тачками со свежей землей… Раннею весною сад работы требует, чтобы вскоре одеться в королевскую нежность первых цветов, а иные деревья уже и сейчас стоят, как юные принцессы, обнаженные, застенчивые и гордые, святясь чистотою своей венценосной наготы, в то время как их омывают заботливые служанки и золотыми гребнями расчесывают их длинные сказочные волосы, разве что не служанки это, а поющие крестьяне… Французский язык этих песен становится с каждым ярусом все древнее, и старинные мелодии звучат между деревьями — каждый ярус соответствует одному веку Франции; в соответствии с этим меняется одежда гуляющих и работающих, в соответствии с этим меняется и музыка, и язык песен, и формы подстриженных деревьев, и архитектура павильонов. Мы уже миновали Ярус Девятнадцатого Века (на этом ярусе я видела в одном уголке парка первый паровоз, заключенный внутрь огромного отполированного стеклянного кристалла), миновали и Ярус Восемнадцатого Века, где парочки в духе Ватто румяно целуются в тени лиственных кубов, миновали и Ярус Семнадцатого Века, где мушкетеры короля вечно сражаются, тренируясь на сверкающих шпагах, миновали Ярус Шестнадцатого Века, где даже в столь ранний час нам попадались люди в масках, закутанные в плащи… Взошли на Ярус Пятнадцатого, а вид с Версальской горы становился все головокружительнее, все раздольнее, и так странно было с высоты этих минувших веков видеть просторы современной Франции, и дальние фабрики с их дымами, и крошечные поезда, бегущие по железным дорогам… Но мы продолжали восхождение, и после того, как мы одолели еще несколько ярусов, тонкие стелющиеся облака скрыли от нас землю, зато небо, свободное и огромное, приблизилось и засияло в полную силу! Что-то странное происходило с нами — то ли от усталости, то ли оттого, что воздух стал разреженным. Иногда мы падали, обнявшись, на ступени мраморной лестницы, крупные опаловые горячие слезы струились по нашим лицам, и словно бы мы засыпали ненадолго, цепенея в нежном женском объятии, но вскоре пробуждались, чтобы продолжать восхождение. Сознание становилось смутно-светлым, разреженным, нежным, и некоторые ярусы мы проходили, не замечая ничего, только изредка, как в облачном разрыве, я лицезрела рыцарей и дам в островерхих головных уборах, или спящего в траве римского легионера, или танцующих галлов, а еще выше запомнился мне устремленный на меня взгляд совершенно дикого человека в звериной шкуре, который смотрел из кустов настороженно и печально, как удрученное животное.