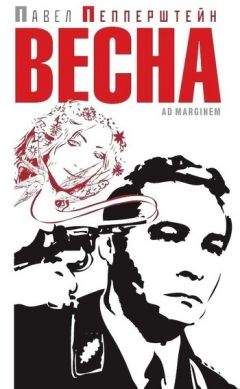Восхождение привело нас в маленький сад на вершине горы, и в центре этого сада находились два юных дерева, только что одевшиеся первым узором цветов. Никого здесь не было, кроме юноши и девушки лет семнадцати. Совершенно голые, они стояли у одного из деревьев, изображая Адама и Еву. Никакого змия я не заметила в ветвях, да и яблока в руках у девушки не было — нынче ранняя весна, и до Грехопадения, видно, остается еще несколько месяцев ожидания и садовых работ…
Мы подошли к ним… Нет, я подошла к ним одна. Спутница моя, видно, отстала. Возможно, уснула на одной из лестниц, где-то в садах прошлого. Я обратилась к Адаму и Еве, стараясь, чтобы мой французский язык звучал как можно архаичнее (у меня это плохо получилось):
— Я должна видеть короля Франции. Мне назначена аудиенция.
Адам и Ева указали мне на совершенно ровную дорожку, которая вела в глубину сада. Там, за деревьями, прятался маленький дворец, которого я раньше не заметила. Я пошла по этой дорожке, Адам и Ева шли за мной со странными улыбками. Дворец оказался круглым павильоном довольно аскетичной архитектуры, полукруглая арка без дверей вела внутрь. Над входом простые золотые буквы возвещали: «Le Roi de la République».
…LE ROI DE LA RÉPUBLIQUE…
Никакой охраны, ни одного стража — как и на всей Версальской горе. Здесь, на вершине, с королем не было никого, кроме голых мальчика и девочки, не имевших даже яблока, чтобы метнуть его во врага.
Я вошла и оказалась в круглой беломраморной зале. В центре возлежал огромный белый шар. Больше здесь не было никого.
— Король Франции! — громко произнесли голые Адам и Ева и поклонились шару.
Я стояла в растерянности. Наконец я сделала реверанс и неуверенно прошептала, глядя на шар:
— Ваше Величество…
В шаре, в его абсолютно белой и гладкой поверхности, как будто что-то двинулось и потекло, как струится молоко, и раздался голос, довольно приятный, который произнес:
— Я слушаю тебя, дитя мое. Ты просила о встрече со мной.
Я поняла, что это говорит шар. Голос действовал магически, он дышал спокойствием и равновесием, как сам шар. Ничего лишнего не было ни в интонациях, ни в модуляциях, ни в тембре голоса. У этого голоса не было ни пола, ни возраста. Правильный французский язык, совершенно современный, без какого-либо налета древности.
Я испытала спокойный восторг.
Мне захотелось встать на колени, и я сделала это. Впервые я узнала, что благоговение может быть таким бесстрастным, как белая стена. Украдкой я оглянулась на Адама и Еву — они стояли в арке, по обе стороны от входа, неподвижно, словно часовые или статуи, но в расслабленных позах, опираясь о мрамор и глядя друг на друга, улыбаясь друг другу одними уголками губ…
— Ваше Величество — начала я негромко, неуверенно, но мой голос звучал ясно и отчетливо в тишине этой круглой залы. — Я — чужестранка, и поэтому я не знала, что… Что вы…
Я запнулась.
— Что я — не человек? — спокойно спросил шар, и мне показалось, что голос его улыбнулся, — Что я — шар? Об этом и во Франции не всем известно. Не так уж часто ко мне добираются сюда, на вершину моей горы. Я — король французской республики, я дал своему народу свободу, а мой народ взамен дал свободу мне. Но прежде чем король и народ обрели мудрость, они прошли через страдания. Знаете, что придумал мой народ?
— Что?
— Гильотину. Машинку для отрубания голов. Королям рубили головы, но короли тем и отличаются от простых смертных, что приспосабливаются ко всему. Наша физиология изменилась, мы обрели способность к существованию в виде отдельных голов, без тела — так мы стали неуязвимы для гильотины. Но народ мог отрезать нам уши, выколоть глаза, вырвать язык, высосать мозг… Мысли об этом помогли нам избавиться от всего лишнего, они подстрекали нас к совершенству. Мои предки шли к совершенству веками: один пытался стать солнцем, другой — грушей, хотели быть яблоками, пчелами, лилиями. Кто со временем становился тортом, кто — коньяком, кто жирным бульоном. Мы обрели совершенство, сделались телами без органов. И тогда мы отказались от короны, стали королями Республики. Так началась эпоха Совершенства. Ты любишь Францию, чужестранка?
— Я влюблена в нее, sir! Со стороны шара донесся довольный смешок.
— Наша страна пока что единственная, что вступила на путь Совершенства. Франция божественна, но она одинока, как и я на своей вершине. Мы бросаем лучи света во все стороны, но наши лучи поглощаются варварской тьмой. Твоя огромная родина живет во мраке невежества. Сделай же так, если сможешь, чтобы страна твоя приобщилась к свету.
— Мы боремся за это, государь. Я и мой муж. Я просила высочайшей аудиенции, чтобы умолять Ваше Величество о моем муже. Он обрел скромное величие в борьбе, он способен сделать так, чтобы страна наша встала на путь Совершенства, рядом с лучезарной Францией. Но ему нужна помощь. Правительство нашей страны бросило его в ссылку, он умирает, он сходит с ума в одиночестве, в диком Шушенском! Он оцарапал себе лоб. Молю вас о помощи, Ваше Величество! Муж мой должен быть свободен!
— Как зовут твоего супруга? — спросил шар.
— Его зовут Владимир Ленин.
Несколько минут шар молчал. Затем он заговорил, и в голосе его слышалась бесконечная доброта:
— Не волнуйся ни о чем, дитя мое. Твой муж будет освобожден. Русский император — мой друг. Я объясню ему, что этот человек нужен ему, императору, для того, чтобы тот мог вступить на путь Совершенства. Русский Царь давно ждет и ищет такого человека. Вот он и нашелся. Как бы ни был глух и холоден Санкт-Петербург, мой голос он услышит. Русский царь хотел бы стать Кубом, поможем ему достичь этого. Тогда на карте Совершенных Государств появится еще одна свободная и великая держава — Республика Русского Царя. Ступай и напиши мужу, чтобы он готовился к свободе. «Готовься к свободе!» — черкни ему телеграммой.
Я склонилась в земном поклоне, коснувшись лбом холодного мрамора, гладкого, как сало.
— Как мне благодарить Ваше Величество? Я припала бы к вашим ногам, но…
— Не стоит. Ты можешь поцеловать мне руку, если желаешь. Кажется, раньше существовал такой обычай. Хочешь?
— Да, Ваше Величество… — в растерянности залепетала я, окидывая взглядом абсолютно гладкий шар. Но тут в нем что-то всколыхнулось, как будто встряхнули молоко, на его поверхности мимолетно пробежали какие-то лица: лицо спящего младенца, лицо старика, лицо мужчины с бородкой, личико девушки, мордочка борзого щенка — все они были белые, как из живого мрамора, и сразу исчезали, но потом белоснежная рука, изнеженная, в перстнях, выдвинулась из шара. Все было белым-бело — и пальцы, и самоцветы в перстнях, и узкие ногти. Я припала губами к этой руке и ощутила вкус шара — он похож по вкусу на молоко, смешанное со снегом.
Рука тут же исчезла и растворилась в шаре. Аудиенция закончилась. Кажется, я лишилась чувств, а очнулась под яблоней. Юные Ева и Адам нежно гладили мои волосы, с любопытством и любовью глядя в мое лицо.
Володенька, готовься к свободе!
Твоя любящая и любимая жена
Надежда.
Милая Наденька!
Все, наконец-то я пробудился. «Проснитесь, чтобы умереть!» — так пробуждали приговоренных к смерти в казематах Бастилии. Кажется, я умираю, и ты не удивишься, если это есть мое последнее письмо. Не удивишься, поскольку и всех предшествующих писем моих ты не получала. Я писал тебе их в горячке, мое сердце, то со слезами, то с лихорадочным хохотом… Нынче болезнь оставила меня ненадолго, но лишь для того, чтобы безотрадная истина моего положения открылась мне с абсолютной жестокостью. Я один, в стылой избе, больной, за много верст от людского жилья. Товарищей моих по ссылке, которые жили здесь в двух соседних избах, уже месяц как жандармы увезли в санях: то ли на свободу, то ли на каторгу. Не помню теперь ни лиц, ни имен бывших товарищей своих по несчастью. Долгая горячка стерла их из памяти. Меня тоже должны были увезти отсюда, но я лежал в жару, метался, бредил, и жандармы оставили меня, решили, что я не жилец. Бросили меня здесь умирать. Была еще до последних дней надежда, что они вернутся за мной в санях, но в этом году рано потеплело, санные пути развезло, размокло все, и теперь долго никто не доберется сюда по дорогам. Местные жители еще зимой ушли за реку, где охоты лучше. У меня оставался запас дров, сухарей, чаю и мерзлой картошки, но все иссякло, и теперь уже безразлично, что добьет меня: лихорадка, голод или пронзительная стылость местной весны.
С трудом поднимаю я тяжкую горячую голову от холодной подушки — на серой грубой ткани осталась кровавая полоска: видно, метался во сне и оцарапал лоб о железную спинку кровати. На столе возле кровати валяется книга Достоевского — раньше я не любил этого писателя, созданного эпилепсией и политической реакцией, ненавидел его скверные нравоучения и архискверные фантазии, а вот теперь полюбил, потому что собратья мои по ссылке забрали с собой все мои книги, оставили эту одну, чужую: сочли, что она подойдет умирающему. Половину страниц я выдрал: что пошло на растопку, что на письма…