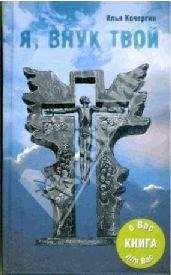Мы все пробуем рыбу с лучком, шарлотку, грибы, а директор школы тем временем открывает принесенную им же бутылку коньяка.
Я сейчас хочу от чистого сердца сказать, что и рыба, и шарлотка, и грибы были действительно замечательными. И спектакль мне понравился. Мне, не любящему всего театрального.
И Антигона, которая выросла в этом театре, в кружке театрального искусства, а потом вышла замуж и уехала растить детей в Рязань (она кричала нам со сцены по-французски в прошлый приезд, а мы все стыдливо опускали взгляд в пол), и сотрудница Сбербанка, и директор одной из школ, и рыба с лучком, и шарлотка, и новые поколения детей, занимающихся в кружке, – некоторые из них подбегали по зову режиссера продекламировать нам стихотворение, – они все были убедительны.
Вот был разлит коньяк, мне предложен лимонад, и мы все потянулись друг к другу нашей посудой. Я ожидал, что будет предложен тост за премьеру или за игравших актеров.
– Давайте, дорогие мои! Выпьем! Чтобы не было войны! Поехали!
Вот это показалось мне неубедительным, слишком театральным. Пустой гаражный тост. Надуманная причина для того, чтобы потянуться друг к другу с бокалами в руках. Этот тост показался мне, человеку из большого города, пусть даже давно сидящему на земле, мелкопоместной позой.
Театр в маленьком городе в конце февраля на берегах Жабки, которая когда-то звалась Вослебедью.
Однако уже на следующий день этот тост, к которому я придрался и которому не поверил, устарел. Неожиданно оказался необыкновенно актуальным и тут же утратил эту актуальность.
Как странно было выйти февральским утром во двор и увидеть коня Феню, так же, как и вчера, отдыхающего и размышляющего о чем-то своем у ограды.
Для него ничего не изменилось со вчерашнего дня в этом мире. А ты увяз в очередном мортоновском гиперобъекте, в приближение которого до последнего момента не верил. С этими гиперобъектами всегда так, вернее, так всегда со странностями человеческой психики: мы не хотим видеть того, чего не хотим, хотя оно все ближе и ближе, оно заняло уже половину горизонта, а потом и вовсе наступило. Как глобальное потепление.
Что мы делали в первый день? Я не знаю, что делали вы, а я вытеснял эту новость.
Выйду во двор, погляжу на серые обрезки досок, прислоненные к стене дома, и войны уже нет. Я их уже год хочу отсюда убрать. Убрал эти доски, порадовался, а потом – снова тревога.
Посмотришь на сугроб под крышей террасы, на треснувшее пластиковое ведро у дровяного сарая, и война опять куда-то делась, ты двигаешься, потеешь, ликвидируешь сугроб, избавляешься от ведра, а потом она снова наваливается.
И кажется, что вокруг, среди осокорей, растущих вдоль ручейка, среди трав и кустарников на краю умирающего села вопиюще тихо.
Толком даже не порадовался вышедшей в конце этого месяца книжке, где подробно описывал, как можно радоваться жизни.
Март
Прекрасные обиды и пейзаж
Мы уже с вами договорились год назад, что в этих записках март – время весеннего уютного томления, в марте так хорошо работается в тепле деревенского дома. Спокойное время книжек, весенних сумасшедших снегопадов и лыжных прогулок. Пусть так и остается, несмотря ни на что. Надо устраивать себе в жизни что-то незыблемое. Надо бережно относиться к марту.
Хотя, конечно, в этом марте плодотворное томление иногда прерывалось. В самом начале месяца, когда Любка ненадолго отъехала в Москву, произошел пожар на Запорожской АЭС. Какая-то ракета или бомба вроде попала в нее. Я еще толком не успел проснуться утром, а тут звонит Любка и говорит, что в новостях пожар.
Утро в марте должно начинаться с прекрасных вещей – с глаз северного оленя, которые становятся золотистыми летом и голубыми зимой, или с нестареющих голых землекопов, или с речного жемчуга в северной чистой воде. Например, в этом марте я читал эпос о Гильгамеше, «о всё видавшем до края мира, о познавшем моря, перешедшем все горы». О его друге Энкиду, который ел травы вместе с газелями и теснился с зверьем у водопоя. А потом всякое-разное об этом эпосе, о его находке, о расшифровке глиняных табличек.
Читал о палеолитических изображениях лошадей и быков, которые встречаются в пещерах Франко-Кантабрии, и о том, как в эти пещеры археологи привезли австралийских следопытов-бушменов, чтобы те прочитали следы босых ног, оставленные в глине первобытными людьми.
А тут, после Любкиного звонка, во время утреннего интернет-дайвинга приходится разглядывать карты вероятного распространения радиоактивного облака и понимать, что оно по-любому накроет твой чудесный дом на берегу ручейка Кривелька.
– Надо ехать в Сибирь. Поедем на Алтай, – говорит мне по телефону Любка. Ей нравятся быстрые решения.
Я выхожу во двор и опять вижу, как у изгороди стоит старый гнедой конь Феня и ждет порцию утренней каши. Заметив меня, гугукает. Я размышляю, как перебираться на Алтай вместе с лошадью. Или его придется пристрелить? Пристрелить для его же собственной пользы, как было написано у Лавкрафта.
Очень неприятно, когда ты решил показать кому-то запасной выход, построил своими руками дом, баню, сараи и катух для коня, насадил деревьев, исходил пешком и изъездил окрестности, полюбил эту землю, начал рассказывать обо всем этом, а теперь нужно отсюда бежать. Ну что это за запасной выход?
Я курю и размышляю, что прощание с конем было бы, конечно, отличным эпизодом для романа: сколько здесь чувств, как пронзительны были бы короткие абзацы, как глухо прозвучал бы выстрел из отцовской двустволки. Но я уже говорил, что сам боюсь и других опасаюсь подсаживать на эмоциональные всплески. Мне довелось в жизни видеть, как пристреливают коня, потом мне довелось описывать это в рассказе. Такие скачки эмоций затягивают похлеще алкоголя, особенно во время начала всяких войн и специальных военных операций. Откажемся от написания таких романов. А то потом себе и читателям придется десенсибилизацию, как коню Фене, устраивать.
Просто несу коню миску с кашей, а дальше дела двигаются своим чередом – завтракаю, убираю навоз, раскрючковываю копыта, даю ведро с чуть подогретой водой, набиваю сено в рептух и подвешиваю его к столбу посредине левады. Рептух – мешок из сетки для хоккейных ворот. Чудесное человеческое изобретение, позволяющее надолго занять внимание коня – пойди вытащи губами и зубами все сено сквозь ячейки размером сорок на сорок миллиметров. И не так скучно проводить вечность, и сена меньше втаптывается в грязь и снег, и меньше остается свободного времени на измышление всяких лошадиных причуд и хитростей.
Одно из тех изобретений, которое нисколько не усложняет людям жизнь.
Пожар на АЭС потушили. Любка вернулась из Москвы. Мы возобновили занятия с конем.
И тут, к моему удивлению, снова разыгрались обиды на Любку и на весь мир. Разобраться с обидами сложнее, чем просто бросить пить, да еще в то время, когда весь человеческий мир вокруг с головой окунулся в эмоции.
Март, волшебное время для работы в солнечном загородном доме, и ты даже уже попросил у нее прощения, ты сделал все, что от тебя требовалось для улучшения отношений, а она, твоя любимая, снова себя ведет как обычный человек со своими человеческими недостатками.
Как тут можно спокойно работать, когда ни западные страны, ни бывшие советские республики, ни твоя собственная страна, ни правительство, ни общество, ни твоя собственная жена, да вообще – всё человечество не оправдывает твоих требований и ожиданий?
О мои обиды!
Я хочу о них рассказать. Еще Рерих писал – не бойтесь твердить о прекрасном, а они прекрасны. Нежны и прекрасны.
Ты просыпаешься утром и независимо от того, хорош ты был вчера или плох, совершил ли ты большой трудовой подвиг или беспомощно бродил по дому и по двору, не зная, за что взяться, – они любят и ценят тебя.
Любимая бесчувственно сопит рядом в самом сладком сне за полчаса до будильника, а они уже в полной боевой раскраске, в чулочках, на каблучках и надушены. Они знают, чего ты хочешь, чего боишься, они бережны к тебе и ничего не требуют взамен, никаких усилий. Все, что от тебя требуется, – просто соглашаться. Они не дадут тебе шанс опозориться или испугаться, они нежны и предупредительны. Они гладят тебя по голове и шепчут о самом прекрасном, что есть на свете, – о свободе.