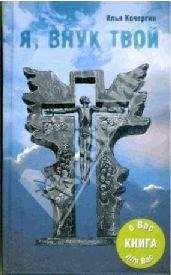– Тебя не ценят, – говорят они и легонько разглаживают морщины у тебя на лбу. – Ты сложно и мудро устроен природой, тебе даны чудесные инстинкты, неисчерпаемые силы. Ты мог бы созидать и разрушать города подобно могущественным джиннам, а от тебя требуют какой-то новомодной эмпатии, бережности и сочувствия. Ты заперт в современном одомашненном женском мире, помешанном на комфорте и толерантности.
Я для очистки совести делаю слабую попытку возразить, но надо мной склонились и шепчут в ухо:
– Тебя не любят и не ценят. Никогда не ценили. Потребительское общество хочет только простых развлечений. Им не нужно запасных путей и высоких парений. Ты бедный и одинокий.
Мне говорят:
– Ты самый продвинутый. Ты выдержал то, что не выдержит никакой заскорузлый мачо. Ты работоспособен и эмпатичен, насколько может быть эмпатичным самый современный мужчина. Ты даже отучился на первой ступени психотерапии. Ты впереди всей планеты.
Моя обида садится на меня, медленно танцует верхом, любуется мной, опускает ресницы, потом распахивает глаза во всю ширь и вглядывается в меня. Меня не смущает нелогичность всех этих речей, у меня вообще с логикой не очень, у меня образное мышление.
Обида кладет мне на грудь теплые любящие руки и все так же пристально смотрит на меня своими распахнутыми глазами, ждет. И мое образное мышление, немного еще не проснувшееся, но все же достаточно образное, предлагает мне образ какой-то шикарной свободы.
Это чудесная свобода от всего: от работы и зубных врачей, мытья посуды, просто мытья и прочего суетного быта, свободы от возраста, от своих убеждений и любых договоров, от налета цивилизованности, от того, чтобы считать время или деньги, от того, чтобы кого-то беречь и о ком-то заботиться.
А потом звонит будильник, и Любка сонным голосом просит поставить чайник. Обида смотрит на меня иронично. Я угрюмо надеваю штаны и ставлю чайник. Как же неохота из открывшейся мне свободы вползать обратно в жизнь, где любимая идет с заспанным лицом в дурацком махровом халате умываться, шаркая по полу тапочками-движками. Не ценит она меня.
И я знаю, что близится запой по восстановлению справедливости, после которого обиды немного угомонятся. Он может быть направлен против Любки, против психотерапии, против общества потребления, против западного общества и против восточного, против общества вообще, против всего неуютного нового и против всего надоевшего старого, против нежного поколения «снежинок» и против заскорузлых мачо, которые тянут весь мир в ту прекрасную молодость человечества, когда мы с Игорёшей Савинским объедались свежей олениной, зажаривая ее на палочках над огнем. Это, конечно, была неплохая молодость мира, но я ее уже не потяну: потом второй раз проходить взросление заново совсем не хочется.
С утра голова не очень хорошо соображает, мысли путаются, остается лишь раздражение. Это, наверное, нормально при началах специальных военных операций. В тех случаях, когда неожиданно для себя завяз в очередном мортоновском гиперобъекте – эмоций много, а соображалка плохо работает.
Завариваю чай покрепче, а потом иду относить коню кашу.
Март, отчаянные синие просветы в рваных тучах, разрисованные пятнами солнца белые просторы, тоненькие голоса каких-то птичек – они с осени стаями перелетают по этим полям, собирают что-то себе на еду и перекликаются друг с другом и всем окружающим нас пространством.
Кстати, а давайте я ненадолго обращусь к такому непопулярному жанру, как пейзаж, раз уж зашла речь о птичках и облаках. Потерпите немного, я быстро. От вас ничего не требуется делать, не стоит связывать этот пейзаж с внутренним состоянием героя или со своим состоянием, не нужно наслаждаться его красотой или безобразностью, можно просто механически пробормотать его про себя и пойти дальше. Мы сделаем, так сказать, реверанс уходящему жанру природного пейзажа – такому тягомотному и ничего для нас уже не значащему. Для вас это будет просто жестом вежливости, а я украшу свой текст некоторой виньеткой с растительными и животными элементами.
Эта виньетка скроет мою неуверенность в том, как надо описывать начала специальных военных операций, когда ты узнаешь о них в своем доме на самом конце кривенькой улицы вымирающего на зимнее время села.
А заодно отвлечемся от моих бесконечных обид. С обиженными на весь мир людьми трудновато общаться, и я боюсь, вы окончательно потеряете интерес к моему запасному выходу.
Итак, попробую.
Чем мой пейзаж похож на привычный нам городской? Надо же найти что-то понятное нашему взгляду. Легче всего будет представить что-то рукотворное, сотворенное не копытами, не членистыми лапками, построенное не клювами и вырытое не когтями. Не выросшее само из себя, а появившееся здесь благодаря пятипалым ладошкам, немудреному опыту и знаниям, почерпнутым из Ютуба.
Передо мной находится изгородь левады. К металлическим столбам, вкопанным почти год назад, приделаны березовые жерди, протесанные с двух сторон и также упомянутые в апреле прошлого года. Жерди потемнели, местами изгрызены конем Феней, который любит все грызть. Любка называет эту привычку оральной фиксацией. Только недавно выяснилось, что в прошлой, городской жизни конь имел обыкновение больно грызть и окружающих его людей, на что жаловались все девочки, ходившие за ним в конно-спортивном комплексе. Нам об этом заранее не сказали, чтобы не пугать. Вергилий с Овидием пугали, сосед Володя пугал, хотя бы бывшие хозяева не стали этого делать, и то хорошо. Сейчас конь если и грызет, то в основном жерди, их много – почти триста метров, а нас если и щиплет, то слабо. Скорее игриво, чем зло. Хочет раскрутить на какую-нибудь реакцию, эмоцию. Хочет раскусить.
У меня, оказывается, тоже есть оральная фиксация – я курю.
В ограде калитка, запирающаяся на проволочное кольцо. За ней стоит конь и в нетерпении роет снег копытом. Дальше – утоптанный, подмороженный за ночь снег левады, слева отворенная настежь дверь катуха, справа ворота на выпас, тоже раскрытые.
Первые дни после приезда конь с удивлением самостоятельно входил и выходил из своего нового дома. Дни были теплые, закрывать коня в катухе мы планировали только в холода.
Иногда Феня проводил по нескольку часов, входя, разворачиваясь внутри, тратя полминуты на размышление и выходя обратно. И снова – взгляд на отворенную дверь катуха и еще одна проверка.
Жизнь повернулась новой стороной: не нужно теперь ждать того, кто отомкнет запоры и поведет тебя на тренировку, в солярий или душ. Не нужно проводить основную часть суток в крохотном пространстве денника. Теперь доступное тебе, полностью твое пространство расширилось до полугектара. Но ты утратил и солярий, и душ, и умелый массаж, и людей, которые хорошо понимают лошадиный язык. На твоем выпасе бегают пугающие тебя лисы и зайцы, вспархивают перепелки и куропатки, заставляющие тебя судорожно взбрыкивать. Летом тебя жалит гнус, весной и осенью под челку и подмышки забираются клещи.
Конь подумал и запретил нам закрывать дверь катуха даже в морозы. Так он решил вопрос свободы и комфорта. Теперь дверь распахнута настежь в любую погоду. И зачем я утеплял стены и крышу минеральной ватой, лепил под доски паро– и гидроизоляцию?
Я гляжу на все это, и конская свобода кажется как-то мудрее, чем та, о которой твердят мне мои обиды.
Слева от левады деревянный туалет, опутанный сетью ветвей девичьего винограда. Когда виноград в мае развернет свои листья, туалет полностью пропадет из виду. А осенью, перед листопадом, станет ярко-красным. Туалет стал первой постройкой здесь, сделанной моими пятипалыми ладошками. И стоило мне достроить его, покрасить и отойти с кистью в руках, чтобы полюбоваться на благородный синий цвет деревенского нужника, как непрошенные соавторы взялись вносить свой вклад в этот арт-объект. Изнутри они повесили ловчие сети на мух, разбросали мышиный помет, прицепили к стенам какие-то крохотные домики из глины, в которых живут чьи-то личинки, снаружи оплели стены и крышу ветвями так, что теперь в летнее время сортир надежно укрыт камуфляжной сеткой и сливается с местностью. В мешанине стеблей и листьев птички устраивают гнезда, постоянно шебуршат и выводят птенчат. Мое произведение уже не принадлежит мне, оно зажило своей жизнью.