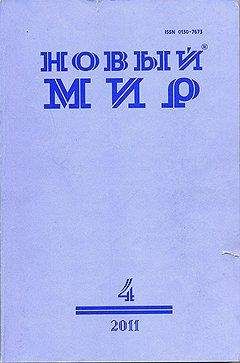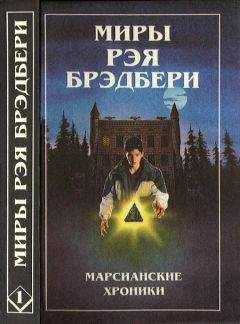Как это прекрасно, когда свечи на месте.
Обеим сестрам и Бате вернувшийся Артем осторожно ставит на стол найденные живой ощупью высокие свечи. Зажигает им две. С третьей, последней, направляется к Жене и Жене.
— За меня не беспокойтесь, — весело объявляет Артем всем сразу. — Себе я отыскал свой старый фонарик. Он лежал бочком и ждал меня, хозяина. И там же — кучкой! представьте себе! — ждали своего хозяина старые, но не севшие… не сдохшие!.. не сдавшиеся!.. батарейки. Вот оно!.. Любуйтесь!
Артем включил фонарик.
Поводя лучом, он отыскивает Женю и Женю. Его молодые помощники ожили в луче — прыгают и смеются. Заодно прыгают на стене их гротескные, но вполне узнаваемые тени.
Женя и Женя: — Мы продолжаем работу! Мы продолжаем!..
*
Сестры и Батя… На столе в рост две зажженные свечи. Возможно, самая неожиданная (и по-своему замечательная) минута вечера.
Ольга машинально делает небольшой глоток шампанского.
Батя произносит негромко и сурово: — Я как бы прощенный.
Ольга молчит.
В колышущейся свечной полутьме Батя снова обращается — теперь к Инне:
— Я, дочка, прощенный. Я как только вышел на пенсию — сразу этим заболел… озаботился. У меня камень на сердце. Я, Инна, написал им… Реабилитации были полагерно. Либо уже по поселениям. По выселкам… Я ведь знал по бумагам — кто где… Перед пенсией меня как раз повысили — заставили сидеть на бумагах. На этих, как говорили начальники, белых бумагах… Переписал адреса. Поехал. Я ездил и ездил. И меня простили.
Инна: — В Питер хочу.
Ольга: — Ты всегда хочешь в Питер.
Где-то чинит свет ч-ч-чертыхающийся Коля: — Дадите мне с-свечку или нет?.. Ч-черт!
Батя негромко продолжает:
— Звоницыны сразу простили. Сначала в письме признался. Потом звонил. Потом приехал. Они приняли как родного. Как своего. Я жил у них… У Звоницына осталась мягкая улыбка. Кормили-поили. Я потом еще и еще к ним приезжал. Дел особых у нас с ним, конечно, не было. Старики!
Батя еще сбавил голос:
— Написал ему, что это я сдал его… Но я не навязывался. Звоницын уже не был, конечно, ссыльным… Но как же он мне обрадовался. Приезжай — вдруг закричал по телефону!.. И ни малой злобы.
В голосе Бати уже пробился, слышен отраженный восторг счастливых дней:
— А его Галя?.. Какие у нее глаза были при встрече! Те же сумасшедшие глаза! Если бы я не был так виноват, я бы расцеловал ее… Да и всякий… Да и вы бы, едва ее увидели…
Покаянный восторг нарастает:
— Да что там!.. А шепчущий филолог Буянов, а Рогожин Илюха! А Марлен Иваныч!.. Я легко их всех нашел. В делах ссылки-пересылки я уже был дока. Как раз меня перекинули. На две ступеньки вверх — к машинописным бумагам… Бумаги сожгли. Ни одной скомканной, выброшенной. Однако я-то знал подноготную. Машинописи горят быстро и особыми всполохами!.. А вот если бумаги написаны от руки — горят ровно. Как эти высокие свечи. Другой не отличит огонь, не удивится. Ну да — горят и горят.
Голос припоминающего Артема, увы, прерывает обстоятельный рассказ Бати о том, что и как у нас горит.
— Оля!.. — кричит Артем. — А вот этой репродукции на стенде я что-то не припомню. Не было ее.
Луч фонарика уперся в краски Кандинского.
— Да. Это наше недавнее пополнение.
— Так мы ее уберем на время… Нам нужна вчерашняя подлинность.
*
А за столом тихие посиделки при ровно горящих свечах. Сестры рядом.
И все тот же не жалкий, а сдержанно-холодноватый голос:
— Я сдал их… Сдал Звоницына с его женой. Сдал Марлен Иваныча… Сдал Ефима… Сдал Рогожина… Иванова-Дюма… Буянова Николая… Всех их я сдал, и все они простили. Ни один не отказался от меня по жизни — не отвернулся.
— Они были вашими друзьями? — вдруг чему-то насторожившись, спросила Инна.
— Они стали моими друзьями.
Батя взял бутылку шампанского, но открыть не поспешил. Нет… Не та минута… Кинул, отправил бутылку назад — точно в ее пластмассовое гнездо, снова в ящик.
— Я их прежде мало знал… Даже если на одной улице жили. Как со Звоницыными. Мы были только соседи. Я разок-другой сидел у них в гостях. Я уже сдал их. Но для вида еще раз у них пообедал. Пожали руки — пока-пока, до завтра!.. У Звоницына потрясающая улыбка. А его Галя! глаза! Галя ко мне подбежала, а руки мокрые, посуду уже послеобеденную мыла. Перемывала… Но глаза сияют — она меня чмокнула в щечку… Куколка. Ей только пять дали.
Батя: — То охотились, то в баню ходили… У них чудная своя, с хвойным духом баня.
— А о доносе?
— Как же!.. Обязательно вспоминали! Звоницын романтичный… Я сдал его легко. Романтичные говорят много лишнего.
— Сейчас он говорит поменьше?
— А вот ничуть. Такой же!.. И вспоминать любит… Мы же, Оля, оба с Арбата. Давай, скажет, Сергеич, про наше… Какие годы были! Молодость! Это ж чудо. А женщины как нас любили…
— И женщин вспоминали?
— Еще как!.. Правда, иногда с кухни Галя, жена его, громыхнет сковородой, цыкнет — и мы молчок. Ну а как только она в магазин… за продуктами… тут уж мы вольные птицы!.. Да-а… Звоницын! Алешка! Он прямо так и начинал — давай, Сергеич. Про то, как ты меня сдал… Старики, злобы никакой!.. И вот мы постепенно. Со вкусом. Не торопясь… Что он сказал — и что я записал слово в слово. На листочек… И как ему зубы потом при задержании выбили. Не жаловался. Он и сам любил помахать кулачищами.
— Десять лет лагеря! Соседу!
— Срок, дочка, не я выбирал.
— Зачем же его сдали?
— Как зачем?.. Да я же работал. У профессионального осведомителя свой, и нелегкий, хлеб.
— И вы всех помните?
Батя замедлил речь. Задумался. Глаза его поискали некую далекую точку.
— Едва ли всех… Их много. Для одной человеческой памяти их много.
И тут его прорвало. Он заспешил сказать. Он сокрушался, винился. Но вина в его голосе уже навсегда сплелась, сжилась, срослась, сроднилась… спелась!.. с уже выданным ему прощением. С оттаявшей ностальгией по тем его невозвратимым денечкам:
— А Снегиревы!.. А Ряжские!.. Их забрали грубо. Высылка была спешная… Тоже сначала Магадан. Что сказать! Горе!.. Они, эти неумехи Ряжские, потеряли ребенка. Девочку. Простудили… И у жены хронический кашель… С хлеба на воду.
— А как они сейчас?
— Как, как!.. Простили.
— Жили у них?
— Сначала письмом простили. Потом две недели у них жил. У его жены все еще кашель. И какой! Сгибает крепкую бабу пополам… Они, Ряжские, так уж получилось, простили меня первыми и первыми откликнулись на мое письмо.
Батя неотрывно смотрит на пламя свечи:
— Кормили. Поили. А главное — всё понимали… Откликнулись сразу!.. Приезжай! Приезжай!
— Ценят в Сибири люди друг друга.
Батя: — Прощают.
— Оля! — Артем нет-нет и кричит с расстояния, припоминая и уточняя важное. — Итак, весь тот вечер я как маятник. Здесь!.. Взад-вперед. Двигался!.. Однако помню, было прохладно. Почему?.. Ведь ровнехонько год назад. Ведь точно такое же лето.
— Лето было дождливое, милый. Прошлое лето.
Артем машет помощникам: — Запишите.
Женя и Женя: — Про дожди я записала… А я уже дважды отметил про нестойкое лето.
Ощупывая затемненное пространство, фонарик Артема выхватывает на луч ряд репродукций — и так охотно, так радостно, встречно вспыхивают несгорающие миры Кандинского.
И опять Артем кричит:
— А все-таки мне запомнился холод.
«Гротеск необязательных подробностей, — думает он, припоминая. — Ну да. Гротеск испарившейся любви. Вчерашний суп. Никого не обманувшая, мелкая драмка, которой некуда сползать, кроме… кроме как в фарс».
— Оля… Скажи хоть два слова. Откуда в том лете так запомнившийся мне холод?
— Милый. Ты ведь ходил раздетый. Голый.
— Голый. Зачем?
— Тебе нравилось.
— Что?.. Совсем-совсем голый? шагал до мнимого полуподвального окна…
— Ты даже пытался это несуществующее окно открыть.
— Ага!.. Вот оно!.. Моя мысль уже рвалась на свободу?
— Что-то вроде, милый.
— Я сойду с ума… Еще одно прочтение прошлого… Оля!.. Но не был же я в тот судьбоносный час без трусов?
— Был, дорогой.
— Точно?
— Насколько я помню… Именно нагота, возможно, и подвигла тебя на мысль о цензуре. Ты вдруг вскрикнул — человек должен быть совсем открыт. Гол. Наг!
— Верно! Верно!.. А ты — я вспомнил — варила кофе. Запах жутковатый, пригорелый. Кофе каждый раз был наполовину ячменный, дешевый.
— Я небогата, дорогой. Ты же знаешь.
— Да, да… Пригарок помню. Мы бедствовали. Ты варила кофе. Но почему ты тоже? почему голая?
— Было жарко.
— Ты так странно стояла… У плиты… Голая…