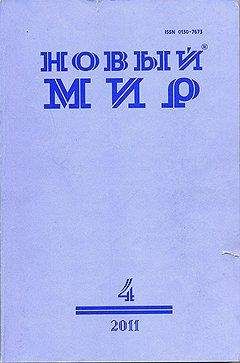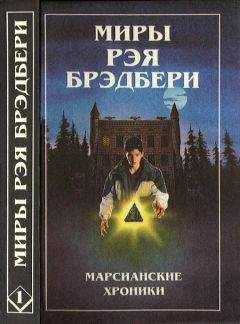Ольга стремительно встала, дернулась, делает шаг к аппарату, — но не успела. Телефон смолк. Сестры смотрят друг на друга.
Тишина.
— И подумать только! — продолжает, спохватившись, Инна. — Не одна она. Все мы… Все женщины подкрасили губы. После нее. Как по сигналу. Как в комедии… Все женщины вдруг похорошели. Обычные наши женщины. Они ведь ничего не хотели от этих Орловых. Ничего реального от этих легендарных братанов… великолепных и, вполне возможно, коррумпированных… Ни-че-го!.. Только знать. Знать, что были такие мужчины.
Вольный или невольный упрек, нацеленный в современных мужчин, задевает Артема. Он уже было открыл рот, чтобы ответить…
Но снова телефон. На этот раз три или четыре звонка. Инна опять бросает неспокойный взгляд на сестру… И опять Ольга к телефону не успевает.
Звонки иссякли.
И теперь покаянно взорвался Артем:
— Инна!.. Другие времена!.. Как я могу сравнивать?!. Хоть отдаленно! хоть с самым распоследним Орловым сравнивать себя — перестроечного интеллигента, который помчался с самодоносом в ГБ…
— Самодонос, я думаю, жил всегда, — настаивает Инна. — Почему ж не сравнить?
— А потому, что они Орловы!.. Ах-ах!.. А мы даже не Воробьевы… В воробьях есть хотя бы бешенство обделенных!.. Коллективное бешенство мелких. А мы, даже когда выпьем, — скромный птичий отстойник. Мы, Инночка, если уж сравнивать, Снегиревы, а?.. годится?
Артем насмешливо прихлопнул в ладоши:
— Какая мысль!.. Сне-ги-ре-вы!
— Ага. Школьный учитель не до конца сожрал Артема Константу.
— Увы, Инночка. Сожрал. Да, да, да, я никого не подставил своим самодоносом. Я только себя… Писал для гэбистов о Водометной выставке. Униженно объяснял, что в картинах наших художников крамолы нет… Хотя возможно, кого-то и подставил нечаянно, а? я ведь приводил конкретные примеры… а как же примеры без имен?..
Ольга: — Артем. Ты уже каялся в этом.
— А я не только о себе. У профессиональных, грунтовых стукачей — работа. Зарплата. Они, Оля, хотя бы хлеб в семью… а я?.. Прислали повестку… дохлую бумажку! Сраную бумажку!.. и я побежал… со своей объяснительной. Сам на себя…
Ольга: — Артем. Нам неинтересно.
Инна: — Говори, говори, Артем.
— Спасибо, Инна…
Ольга: — Сергей Сергеич. Не открыть ли нам еще бутылку?
Но Артема не остановить:
— По сути я был стукач. Сам того не знал — и стучал. Не надо бояться красивого слова… Стукач самодоносный. Крепко? красиво?.. У гэбистов — такой стукач имеет даже спецназвание. Дрозд.
Батя серьезно занят, возится с пробкой. Шампанское в сильных руках изойдет, зашипит, но не выстрелит.
Заодно Батя спокойно, с хорошим знанием этих суконных дел поправляет Артема:
— Дятел.
— Не дрозд?.. Вы уверены?.. Мне знающие говорили — дрозд.
Голос Бати спокоен:
— Дятел.
Артем пускает в ход интеллект:
— Но где логика?.. Ведь дятел стучит беспрерывно, а не только в рабочие часы — от и до.
Оказывается, у Бати с интеллектом тоже в порядке.
— У настоящего самодоносного дятла, Артем Константинович, все часы рабочие.
Артем взывает к Ольге.
— Оля! Оля!.. Не молчи. Скажи хоть что-то. Мне утром уже уезжать. Я тебя… тебя хочу услышать.
Инна: — А что это мы всё о птицах?
Но Артем, кажется, боится, что вечер кончится, вот-вот ляжет ночь, а он так и не выговорился — не высказал свое… все свое!.. этой… этой вышвырнувшей его Москве…
А мысль жжет. Артему хочется итожить, говорить о том, что на наших российских стукаческих просторах только и есть две стороны одной медали — дрозд и дятел!.. Стукач-интеллектуал и стукач-работяга!.. Но кому это интересно? Он мог бы. В куда более живых и ядовитых словах.
— Оля!
— Ты, Артем, сам все сказал — каждую минуту мысленно беседуешь…
— Стучу!
— Стучишь… мысленно беседуешь с неким добреньким следователем.
— Права. В точку… Ах, как ты права, Оля!.. Самодонос — болезнь нашей интеллигенции. Самодонос не прекращается. Ни днем ни ночью… Когда устраиваются на работу. Когда пишут письма. Когда рассказывают анекдоты… Это сильнее тебя и меня. Кругом дырявые, нестойкие людишки. А самое интересное, что и днем и ночью наш интеллигент оправдывает и себя — и своего мысленного следователя, который с нами хорош… Который добр… Который нас поймет… Оля!
— Ты все замечательно сказал, Артем. Я не скажу лучше.
Инна: — Хватит… Хватит… Вы сейчас оба говорите с тем самым следователем.
Батя: — Дятел. Все часы рабочие.
Звонок телефона.
*
Инна первая бежит туда, опережая Ольгу, — и на этот раз они успевают. Инна схватила трубку:
— Максим… Это ты?.. Ольга?!.. Не выдумывай. Вы с ней расстались.
Ольга подошла. Нетерпеливо тянется к трубке.
Инна ей негромко: — Ну, хоть выдержи паузу, Оля.
— Нет.
Инна: — А может быть, Батю позвать?.. Позвать?.. Пусть скажет сынку пару горячих слов.
Ольга качает головой:
— Не надо.
Максим кричит в трубку: — Как расстались?.. А ну дай ей телефон!
Ольга берет трубку.
Максим радостно ей кричит. Радостно и яростно! Как всегда, звучен и напорист его энергичный мажорный голос: — Ольк!.. Кукленок! Мы расстались?.. Разве?.. Что ты несешь?!
Ольга молчит.
— Но ведь ты пожалеешь. Еще как пожалеешь!.. Через десять лет, Ольк, я вернусь со своим знаменитым рок-оркестром! Ты будешь клянчить билет на мои концерты…
Ольга не выдерживает:
— Кончено, Максим. Все кончено.
Неизвестно, каких слов ждала Ольга. Но не тех, что услышала.
— …Я не приглашу тебя даже на репетицию… Минуя твою, трах-тара-рах, Москву, мы из Сибири сразу полетим в Лондон записываться. В Европу! В Штаты!.. Ладно… Я, так и быть, специально тебя приглашу — в отместку!.. Через десять лет, поняла?
— Через десять. Поняла… И пожалуйста, не раньше.
Гневный Максим, услышав отмеренный ему срок, пять и пять, первым бросает трубку.
А Ольга еще некоторое время сжимает трубку цепко застывшей рукой. И как последний колокол — телефонные, прохладно мертвые гудки отбоя.
— Я освободилась, — говорит она вялым шепотом Инне. — Вот и конец.
Сил ей хватило, чтобы правильные слова выговорить. Но не более того.
А Инна, как это, увы, бывает у родных, лишь усугубила, ускорила рвущуюся наружу слепую боль.
— Не плачь… Я с тобой, Оля… Мы поедем в Питер…
И тотчас получила ответный истерический вскрик:
— Смеешься! Издеваешься!.. Какой, к черту, Питер!
— Я…
— Если я еще… Если еще раз я услышу… про Питер… — плачуще, через взрыды кричит, протестует, грозит Ольга.
— Прости меня. Молчу. Молчу…
Ольга плачет.
Ну казалось бы — что ей? Что ей этот дурной, уже отставленный Максим?! Этот заполошный рок-музыкант!.. чужая мелодийка! мелкое музыкальное заимствование!.. А вот ведь больно! А какое жжение у сердца!.. И так жаль себя — самую глупую женщину из всех глупых. Эти повторяющиеся неудачи… эти темные провалы… эти мужчины… они ее достали! Достали!
Больно клокотнув горлом, невнятное выкрикнув, Ольга убегает — туда.
Скорее туда, где никого… Где пустые полутемные комнаты, где ее Кандинский.
Инна останавливает Артема. Устремившегося было за Ольгой… Схватила за руку:
— Не надо. Не ходи за ней… Ни к чему.
*
Из полуподвальных безлюдных комнат доносился теперь затяжной женский плач.
Затем, на смену, временно повисла тишина — еще более гнетущая. И тут же опять плач. И первым не захотел (или не смог) эти Ольгины слезы терпеть молча Батя. Бывалый старик, он попросту вернулся к своему некончающемуся рассказу, к ямам памяти.
— …Одно время работал внутрикамерным… К Рогожину меня подсадили в почти полной тьме. Он мне обрадовался! Однорукий Илья Рогожин терпеть не мог одиночную камеру. Перед сном выл… Он почасово знал, что и как с ним будет дальше. Он хотел поскорее в лагерь.
Когда вперебив его слов угрожающе, очередной волной накатывались, неслись рыдания Ольги, Батя примолкал, притормаживал.
А вот Артем, которого к рыдающей не пустили, выражал свое гостевое недовольство: — Инна!.. Что? Она так и будет плакать?
Инна отвечала коротко: — Так и будет.
— Но почему?
— Не знаю. У женщин бывает.
Артем нервно хрустел пальцами рук.
А Батя продолжал свое. Его чуть лающий густой басок спокойно пробивался сквозь женский плач. И как-никак подталкивал вперед их застоявшееся время. Которое все они так винили.
— …Перед сном обязательно выл… Он хотел поскорее в лагерь. Мне не пришлось особо стараться или провоцировать. Рогожин наговорил незнамо чего сам и сразу!.. У меня был голос, которому хочется верить. А Рогожин хотел поскорее в лагерь. Он без конца твердил… Как молитву-самоделку… что главное в жизни — раствориться в людях. Главное — потерять свое «я». Так умно он говорил. У него было как бы наваждение… Забыть себя… Растворить в лагере свое «я». В кислоте. В лагерной вонючей жиже…